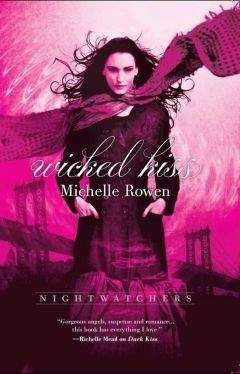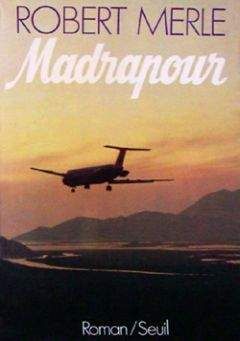Фёдор Степун - Николай Переслегин
Брата мама брала с собою очень редко, хотя он и был всего только на год моложе меня; я рос «единственным сыном». Если-бы мама была жива, Тебе было бы очень трудно с нею. Страстная она была женщина и, думаю, очень ревнивая.
Странно, Наташа, — о чем, о чем мы с Тобою только не говорили, а вот о маме Ты зна-
232
ешь еще не все. Сейчас, например, мне вспоминается поездка в Калугу, очень по моему для мамы существенная, о которой я Тебе не рассказывал да о которой и сам как-то давно не вспоминал...
Уже с самого утра у нас в доме было таинственно и тревожно. Отец отправлялся на охоту, наполняя и комнаты и конюшню и двор шумом, весельем и разносами.
Пообедав в одиночестве, он высокими сапожищами громко простукал мимо нашей детской по коридору и уехал на разгонной своей тройке со своим любимым кучером Никифором, прозванным за кроткий нрав и степенную езду «Господи помилуй». Маме он не подавал никогда.
Обедали мы одни, так как мама к столу не вышла, и страшно удивлялись громадным порциям, которые брал себе наш гувернер Ничке (кто ему мешал съедать такие-же при маме и отце, я до сих пор никак не пойму). После обеда Ничке засадил нас раскрашивать картинки и требовал, чтобы мы ходили на цыпочках, так как «die Mutter ist unwohl». Но это «unwohl» оказалось преувеличенным. Фиолетя, как сейчас помню, какого-то петуха, я вдруг вздрогнул услышав прекрасный мамин голос в далекой гостиной. Бросив все, я выскочил в коридор и, прошмыгнув в гостиную, незаметно юркнул под рояль.
Сидеть под роялем было для меня в то
233
время совершенно неописуемым удовольствием. Мне казалось, что мамин голос звучит под роялем как то особенно таинственно, что под роялем как то слышнее струнный звук инструмента, словно играют не только на рояле, но и на арфах. Особенно же нравились мне маленькие мамины туфельки, то нажимающие то отпускающие педаль; помню, что я бывало по долгу не сводил с них глаз. Как это ни странно, но эти часы под роялем были моими первыми вдохновенными часами.
В тот тревожный день, о котором пишу Тебе, мама пела особенно хорошо: чисто, скорбно и страстно. Я слушал ее с бьющимся сердцем. Когда-же она неожиданно оборвала любимый мой романс на высоко взлетевшей ноте, я не выдержал и весь в слезах прильнул к её затихшей на педали туфле. Мама страшно испугалась (больше всего на свете боялась мышей). Выскочив из под рояля, я уже приготовился к строгому выговору, но, увидав меня, она все сразу-же поняла Гневная складка на её лице мгновенно расправилась, она привлекла меня к себе и, целуя в голову, тихо сказала: «ты всегда можешь слушать, когда я пою, только другой раз входи так, чтобы я видела, а то я как ни будь испугаюсь во время пения и так и останусь с раскрытым на всю жизнь ртом». При этих словах, милые, серые слегка слишком круглые глаза её засветились нежною лаской; рассмеявшись явно только для меня, она взяла с пюпитра скомканный платочек,
234
чтобы вытереть им мои щеки, но свечи задула и петь, как я ни просил, уже больше не стала.
За сильно запоздавшим ужином она ничего не ела, была рассеяна и очень молчалива. Сказала только Ничке, что я завтра к девятичасовому поеду с ней на станцию, и чтобы меня потеплее одели. Я очень обрадовался этому известию, но проявить своей радости на этот раз, не знаю почему, не посмел. Когда после ужина мы с братом подошли к ней проститься, она поцеловала меня крепче обыкновенного, но перекрестить нас позабыла и до детской, как делала это каждый вечер, не довела.
Ночью мне снилось её пение, а может быть не снилось, а слышалось сквозь сон. Раньше двенадцати мама никогда не ложилась и пела охотнее всего по вечерам. Помню тревогу и грусть этой ночи.
На следующее утро я уже сидел в коляске, а Авдей Иванович на козлах, когда она вышла из парадных стеклянных дверей своею лёгкой походкой довольно полной женщины в сером шелковом пыльнике поверх английского костюма, в серых перчатках и в маленькой шляпе с моей любимой рябиной. Была она в этом дорожном костюме запомнившемся мне на всю жизнь, очень изящна, очень красива, и от неё нежно и таинственно пахло фиалкой.
Закутав нам ноги пледом и застегнув фартук, миловидная мамина горничная Лиза (мама всю жизнь не переносила вокруг себя некраси-
235
вых людей) сказала «готово», с козел раздалось «пускай», два конюха отпустили перебиравших ногами пристяжных, любимый мамин кучер Яков, громадный красавец мужик с холеною черною бородой, чуть нагнувшись вперед, как-то особенно повел локтями, и мы с места же «бросились догонять дорогу», как шалую мамину езду, с которою вечно тщетно боролся отец со своим «Господи помилуй», остроумно называла вся наша дворня.
Такой лет полагался у Якова до самого Маслова. Только взлетев на масловскую гору, сдерживал он лошадей и уже до самой станции ехал ровною, спорою рысью. Для меня такие поездки были величайшими праздниками. Все свое детство я вел упорнейшую и небезуспешную борьбу с няньками, гувернантками и самим Ничке за право в свободное от занятий время пропадать на своем любимом конном дворе..
Сейчас вокруг меня оживленная людская толпа, шмурыганье сотни подошв и несмолкаемый гул; пахнет борщом, фритюром, табаком и пыльными чехлами, но я всего этого не чувствую. У меня и в сердце и в глазах и в ноздрях совсем другое...
Мы едем тем же шишкинским лесом, которым сегодня Ты провожала меня. Пахнет терпкой влажной осеннею прелью, острым лошадиным потом, взмыленным ремнем, лаком пролетки и фиалкой. В бьющемся моем сердце поют подобранные бубенцы, а в усталом мозгу
236
утомительно пляшет, задевая кусты орешника, лакированный валек левой пристяжной. Я сижу рядом с мамой. Просунув свою руку под её локоть, я крепко прижимаюсь к нему щекой. Чувствую её родное тепло, я изредка робко подымаю свои глаза к её лицу. Её брови сдвинуты, глаза чуть прищурены. Она очень бледна, смотрит вдаль, мне ее страшно жалко. Хочется что-то сказать, о чем-то спросить, но я не знаю что и о чем. Слова любви приходят много позднее её самой, Наташа. То же, что я тогда испытывал, было конечно первою моею любовью, и эта первая влюбленность в таинственный образ моей матери, быть может, глубочайший корень всех последующих чувств.
В поезде мама все два часа с какою-то нарочитой тщательностью рассказывала Авдею Ивановичу, где и что ему надо будет купить: какой колбасы у Барута, каких консервов у Свешникова и т. д., и т. д. Сидя на откидном столике у окна и смотря как бегут за стеклом, чередуясь друг с другом, вбегающие к горизонту дали и сбегающие к полотну леса, я испытывал бесконечную, безотчетную грусть. Когда-же среди множества хозяйственных наставлений услышал распоряжение чем кормить меня за обедом, из чего сразу-же заключил, что мама будет обедать одна, я не выдержал и разрыдался.
Не понимая, что случилось, мама кинулась ко мне, взяла в свои руки мою голову, подняла ее и, все прочтя в моих глазах, принялась с та-
237
кою нежностью утешать меня, прося прощения своими прекрасными серыми глазами, что мои слезы потекли еще горячей, еще обильней уже не только от жалости к себе, но и от жалости к ней.
Напрягая всю свою волю, я все-же никак не мог перестать плакать, и все упорнее спрашивал маму, зачем же она взяла меня с собою, раз мы весь день не увидимся. На этот вопрос у неё не было и не могло быть никакого понятного для меня ответа.
Беспомощно стоя передо мной, она дрожащею рукою вытирала мне щеки душистым своим платком и, смотря на меня глазами полными слез, как то очень странно, словно творя про себя молитву или заклинание, неустанно шептала какие-то тогда мне мало понятные, но отчетливо запомнившиеся слова: — «так нужно, Коленька, когда вырастешь, все поймешь... Вину свою мне все время нужно перед собой видеть. Будешь ты меня сегодня ждать, вот я и вернусь, вернусь непременно! Ты не плачь, ты верь, а то я сама в себя веру потеряю»!
Говорила-ли мама со мной точно такими словами, я не знаю, Наташа, но пишу их сейчас так, как будто мне их кто-то диктует. Их смысл, их боль, их надежда и их отчаяние — все это во всяком случае точно до наимельчайшей черты.
Сейчас мне ведь снова не больше девяти лет, и я чувствую, что совсем, совсем-бы не удивился, если бы вдруг распахнулись двери и я
238
увидел бы маму, возвращения которой из города двадцать с лишком лет тому назад я ждал с таким последним отчаянием.
Ведь память гораздо больше, чем только память, Наташа. Настоящая память — реальное перевоплощение, величайшее чудо жизни, нерушимый залог и единственное доказательство бессмертия нашей души.
В ту поездку мы с Авдеем Ивановичем долго ждали «нашу барыню». Сказав, что вернется к семичасовому, она вернулась только к ночному курьерскому. Выпивший за обедом лишнюю рюмку и очень уставший от города, Авдеич прилег прикурнуть на диване, а мне велел сторожить короба с закуской, чтобы «Боже упаси, чего не пропало».