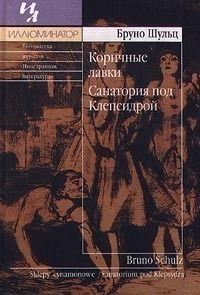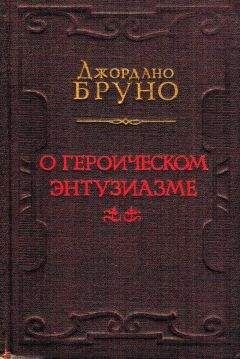Бруно Шульц - Трактат о манекенах
У меня не хватило отваги обойти виллу и взглянуть на задний ее фасад. Меня обязательно заметили бы. Но почему, несмотря на это, у меня ощущение, будто когда-то я уже был там — страшно давно? А в сущности, разве мы не знаем заранее все пейзажи, которые встретим в своей жизни? Разве может произойти еще что-то совершенно новое, чего бы мы давно уже не предощущали в самых глубинных наших запасах? Я знаю, когда-нибудь в поздний час я встану там на пороге садов рука об руку с Бьянкой. Мы войдем в забытые закоулки, где среди старых стен замкнуты отравленные парки, искусственные эдемы По, заросшие шалфеем, маками и опиумными лианами, пылающими под бурым небом старинных фресок. И разбудим белый мрамор статуи, спящей с пустыми глазами в этом запредельном мире, за рубежом увядшего вечера. Спугнем ее единственного возлюбленного, красного вампира, который, сложив крылья, заснул на ее лоне. Он бесшумно улетит, мягкий, текучий, колышащийся бессильным, бесплотным, ярко-красным лоскутом, лишенным костяка и телесной субстанции, закружится, расшелестится, растает без следа в помертвелом воздухе. Через маленькую калитку мы вступим на пустую поляну. Растительность будет там выжженная, как табак, как прерия в позднее индейское лето. Возможно, это будет в штате Нью-Орлеан или Луизиана — ведь страны это всего лишь предлог. Мы усядемся на каменное обрамление квадратного пруда. Бьянка обмакнет белые пальцы в теплую воду, в которой плавают золотые листья, и не поднимет глаз. По другую сторону будет сидеть какая-то черная, стройная фигура, вся укрытая вуалью. Я шепотом спрошу про нее, а Бьянка встряхнет головой и тихо скажет: «Не бойся, она нас не слышит. Это моя умершая мама, она живет здесь». Потом станет говорить мне самые сладостные, самые тихие, самые печальные слова. И не будет уже никакого утешения. Будут опускаться сумерки…
28События мчатся в ошеломляющем темпе. Приехал отец Бьянки. Я стоял сегодня на скрещении улиц Фонтанов и Скарабея, как вдруг подъехало блестящее открытое ландо с широким и мелким, как раковина, кузовом. В этой белой шелковой раковине я увидел полулежащую Бьянку в кисейном платье. Ее мягкий профиль был затенен опущенными полями шляпы, которую придерживали завязанные под подбородком ленты. Почти целиком утопая в складках мягкого фуляра, она сидела рядом с господином в черной визитке и белом пикейном жилете, на котором золотилась тяжелая цепочка со множеством брелоков. Под черным глубоко надвинутым котелком серело замкнутое, хмурое лицо с бакенбардами. Увидев его, я внутренне вздрогнул. Никаких сомнений быть не могло. То был г-н де В.
Когда элегантный экипаж, мягко дребезжа эластичным кузовом, миновал меня, Бьянка что-то сказала отцу, и тот обернулся и направил на меня взгляд своих больших черных очков. У него было лицо серого льва без гривы.
В упоении, чуть ли не в исступлении от противоречивых чувств, я крикнул: «Рассчитывай на меня!.. — и — …До последней капли крови!..» — и выстрелил в воздух из выхваченного из-за пазухи пистолета.
29Многое говорит за то, что Франц Иосиф I, по сути дела, был могущественным и унылым демиургом. Его крохотные, тупые, как пуговицы, глазки, сидящие в треугольных дельтах морщин, не были глазами человека. Лицо его с белыми, как молоко, зачесанными назад, точно у японских демонов, бакенбардами было лицом старого осоловелого лиса. Издали, с высоты террасы Шёнбрунна, лицо это благодаря определенному расположению морщин казалось улыбающимся. Вблизи же улыбка представала гримасой горечи и приземленной деловитости, не просветленной проблеском хоть какой-то идеи. В тот момент, когда он, отдавая честь, появился, чуть ссутуленный, с зеленым генеральским плюмажем и в бирюзовой шинели на мировой сцене, мир в своем развитии дошел до некоей счастливой границы. Все формы, исчерпав свое содержание в бесконечных метаморфозах, свободно висели на вещах, наполовину сшелушившись, готовые окончательно спасть. Мир энергично раскукливался, проклевывался юными, щебетливыми, неслыханными цветами, счастливо разрешался во всех узлах и перегибах. Еще немного, и карта мира, это полотнище все в заплатах и красках, трепеща, исполненная вдохновения, взлетела бы в воздух. Франц Иосиф I ощутил это как опасность лично для себя. Его стихией был мир, втиснутый в регламент прозы, в прагматику скуки. Дух канцелярии и циркуляров был его духом. И странное дело. Этот черствый, отупелый старец, по сути своей не обладавший никакой привлекательностью, сумел перетянуть на свою сторону большую часть творения. Все лояльные и предусмотрительные отцы семейств вместе с ним почувствовали себя в опасности и облегченно вздохнули, когда могущественный этот демон возлег всей своей тяжестью на предметы и явления и задержал взлет мира. Франц Иосиф I разделил мир на рубрики, урегулировал его движение с помощью патентов, взял в процедурные шоры и не дал ему сбиться на дорожки непредвиденного, авантюрного и вообще непредсказуемого.
Франц Иосиф I отнюдь не был врагом добропорядочной и богобоязненной радости. Это он из своего рода предусмотрительного добросердечия придумал кайзеровско-королевскую лотерею, египетские сонники, иллюстрированные календари, а также кайзеровско-королевские табачные лавки. Он унифицировал небесную прислугу, одел ее в символически синие мундиры и выпустил в разделенный на ранги и консистории мир персонал ангельских сонмов в облике почтальонов, кондукторов и служащих департамента государственных сборов. Даже самый ничтожный из этих небесных гонцов сохранял на лице заимствованный от Творца отблеск предвечной мудрости и жовиальную благосклонную улыбку, даже если от ног его вследствие тягостных земных странствий несло потом.
Но слышал ли кто-нибудь о сорванном заговоре у самого подножия трона, о великой дворцовой революции, в зародыше подавленной в самом начале покрытого славой правления Всевластного? Троны, не подпитываемые кровью, увядают, их жизненная сила возрастает той массой несправедливости, непризнанной жизни, того вечно иного, что было ими вытеснено и не признано. Мы открываем здесь секреты, прикасаемся к государственным тайнам, тысячекратно запертым и запечатанным тысячей печатей молчания. У Демиурга был младший брат, совершенно отличный от него духом и идеей. Но у кого его нет в той или иной мере, кому он не сопутствует, как тень, как антитеза, как партнер вечного диалога? По одной версии, то был всего лишь кузен, по другой — вообще даже не был рожден на свет. Его попросту вывели из опасений, из ночных видений Демиурга, подслушанных во сне. Быть может, Демиург кое-как сляпал его, подставил за него кого-то другого, чтобы только символически разыграть эту драму, вновь, в который уже раз, церемониально и обрядово повторить этот предуставный и неотвратимый акт, который он так и не смог исчерпать в тысячекратных повторах. Этот условно рожденный, профессионально как бы пострадавший в силу своей роли неудачливый антагонист звался эрцгерцогом Максимилианом. Уже само это имя, произнесенное шепотом, молодит кровь у нас в жилах; она становится светлей и красней, быстрей пульсирует тем ярким цветом энтузиазма, сургуча и красного карандаша, которым помечены радостные телеграммы оттуда. У него были румяные щеки и лучистые голубые глаза; все сердца устремлялись навстречу ему; ласточки, радостно попискивая, пересекали его дорогу, брали его снова и снова в трепещущие кавычки, превращая в счастливую цитату, написанную праздничным щебечущим курсивом. Сам Демиург втайне любил его, хотя и думал, как его погубить. Сперва он назначил его командором левантийской эскадры в надежде, что тот, ища приключений в южных морях, постыдно утонет. А потом заключил тайное соглашение с Наполеоном III, который коварно втянул Максимилиана в мексиканскую авантюру. Все было заранее предусмотрено. Исполненный фантазии и воображения молодой человек, соблазненный надеждой создания нового счастливого мира над Тихим океаном, отказался от всех прав на корону и от наследия Габсбургов. На французском линейном корабле «Ле Сид» он отправился прямиком в приготовленную для него западню. Документы этого тайного заговора так никогда и не вышли на свет дня.
Так развеялась последняя надежда недовольных. После трагической гибели Максимилиана Франц Иосиф I под предлогом придворного траура запретил красный цвет. Черно-желтый траур стал официальным цветом. Отныне пунцовый — колышащийся флаг энтузиазма лишь тайно бился в сердцах его приверженцев. И все-таки Демиургу не удалось окончательно извести его из природы. Ведь потенциально его в себя включает солнечный свет. Достаточно на весеннем солнце закрыть глаза, чтобы тут же под веками впитывать этот цвет волна за волной. Именно эта краснота начерно сжигает фотобумагу в весеннем сиянии, перехлестывающем все границы. Быки, которых с досками на рогах ведут по залитой солнцем городской улице, видят эту красноту в ярких полотнищах и наклоняют головы, готовые к атаке на воображаемых тореадоров, что в панике сбегают с пламенных арен.