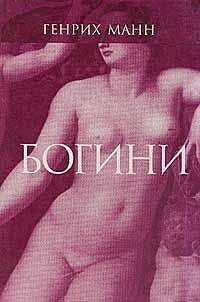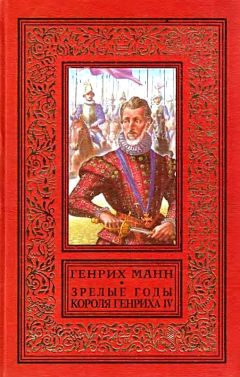Генрих Манн - Минерва
Она написала письмо в Вену госпоже Беттине Гальм.
«Ваш муж окружен интригами, которые угрожают его здоровью и, может быть, даже жизни. Вы любите его, я знаю это, потому я, как почитательница его таланта, советую вам: приезжайте. Остановитесь у меня. Я лично расскажу вам об опасных соблазнах, которым чувственный художник, к сожалению, не мог противостоять. Другие любовники дамы собираются отомстить, прежде всех известный дуэлянт Сан-Бакко».
Она разорвала письмо.
— Таких вещей не пишут. К тому же эта жена — тщеславная дура, хвастающая в обществе его гением.
Наконец, она набросала телеграмму.
«Спокойствие и работоспособность вашего мужа в опасности. Приезжайте немедленно».
Джина одиноко страдала в своей комнате от удушливых испарений, много дней носившихся между небом и морем. В первый голубой вечер герцогиня увезла подругу в лагуну в стройной коричневой гондоле без уключин и навеса. На обоих гондольерах были костюмы и шапки из белого шелка. На ногах у них были башмаки из желтой левантинской кожи, с толстыми кистями, а вокруг талии они носили голубые шелковые шарфы с серебряной бахромой. Дул мягкий ветерок, над Punta di salute стояло светящееся розовое облако.
— Какой сладостной, незлобивой и полной может быть жизнь! — сказала Джина. — Утро проводить вблизи любимой картины или памятника, который вызывает в нас такое ощущение гордости и счастья, как будто прославляет нас самих; днем отдыхать в саду, где обветренные статуи украшают сказочными играми темную зелень; глубоко вдыхать морской воздух и возвращаться домой по голубой солнечной лагуне, вдоль радостной Ривы; видеть, как расцветает в встречной гондоле, словно незаслуженное чудо, прекрасное лицо, и при каждом повороте головы снова находить сверкающую Пиаццетту, розовую и белую за разноцветными парусами — все это точно сон… точно сон…
Она замолчала; в ее глазах светилась задумчивость. «Точно сон», — повторила она, наслаждаясь этим словом, словно впервые создав его. Герцогиня думала:
«Да, это лучшее, что я знаю в жизни. И все же мне это наскучило».
Джина продолжала:
— Потом наступает звездная ночь. Портик старой таможни бледно мерцает, призрачно отражаясь в темном зеркале воды. Военный пароход бросает в воду ряд длинных огней, а черный силуэт гондолы с белыми гребцами, равномерно наклоняющимися вперед, молча скользит по горящей глади. Гондолы медленно и беззвучно блуждают во мраке. Мандолина бросает нам из влажной дали мелодию, точно цепь маленьких бледных кораллов. Возле нас на воде кто-то затягивает народную песню…
— Он продал всю эту позицию какому-нибудь иностранцу за несколько лир, — сказала герцогиня и улыбнулась, как будто извиняясь за свои слова.
— Что мне до того, — возразила Джина, — что он обыкновенный продавец поэзии? Я не хочу от него решительно ничего, я просто ловлю звуки, которые принадлежат уже не ему, а ночи. В ее лоне, глубоко в своей гондоле, лежу я и закрываю глаза. Я не хочу от людей больше ничего, кроме нескольких оброненных звуков, прелести которых они сами не знают, не хочу ничего, кроме тайного чувства: я так долго была лишена всего этого.
— Я не хочу чувства в песнях. Я с удивлением пожимаю плечами, когда кто-нибудь хочет тронуть меня стихами. Я нахожу его навязчивым. Мои поэты — спокойные мастера слова, они презирают маленькие человеческие сентиментальности. Они гордятся своим сердцем, которое бьется в такт совершенному. Их стихи, когда мы произносим их, звучат так, как будто бронзовые монеты падают на мрамор. Они заключили свои безупречные стансы и сонеты в эти узкие, искусные оправы, точно строгие, покрытые фигурами, рельефы.
— И все-таки, читая их вместе, мы не раз плакали.
— Только безмерность их красоты вызывала у нас слезы… Мы сидели на пурпурных, позолоченных скамьях с прямыми спинками при ярком свете высоких порфировых ламп и читали стихотворения, в которых кроваво шумели королевские плащи и на ступенях храма раздавались звуки медных труб.
— И на бледных, мягких подушках лежали мы, — продолжала Джина, — неясные тени робко скользили по легким бледно-лиловым шелкам, и под плотно завешанными окнами мы читали усталые, прерывистые стихи, — стихи, в которых молят больные любовники, и с голых деревьев из покинутых гнезд медленно падают легкие перья… На обложке были Амур и Венера в овале из слоновой кости… Но иногда становилось жутко; мы читали о замках, полных воспоминаний о недобром величии. Улыбались женщины с красными рубцами на шее, а за окнами, над черной стеной леса, носились тени мрачных приключений. Подле нас, из тяжелых канделябров с бронзовыми постаментами, полными чудовищ и битв, исходил бледный свет, точно из недр кошмарной ночи.
— В этих стихах, — закончила герцогиня, — мадонны опять являются тем, чем они были в свое время: небесными возлюбленными. Они вернули и ангелам невыразимую грацию их первого взгляда.
После паузы Джина прошептала:
— Милые, милые произведения искусства…
Она оборвала, тяжело дыша.
— Воздух опять стал тяжелым. Как потемнели облака, и как потеряла все краски лагуна! Мне очень грустно.
— Почему, Джина?
— Я должна покинуть Венецию, если хочу пожить еще немного для своего ребенка. Этот прекрасный город убивает меня, — это была бы слишком счастливая смерть, здесь, Среди моих милых, милых творений искусства. Ах! Они добры и верны, они не угнетают робких. Я бежала к ним от людских насилий; они говорят со мной так торжественно и так сердечно. Я растворяюсь в них, я забываю человека, которым я была, забываю, как подавлен и унижен был он другими людьми, — и от меня не остается ничего, кроме чувства, согретого солнечными лучами картин.
— А я, — сказала герцогиня, — я становлюсь вполне собой только в обращении с картинами! Только они равные мне, только с ними я чувствую всю свою гордость и любовь, на которую я способна. С тех пор, как они сделали меня своей подругой, я жила полнее, смелее, расточительнее, чем прежде, когда хотела опрокидывать государства и заставляла умирать за себя тысячи людей.
— Жизнь? — прошептала Джина. — Я хочу забыть ее, эту жизнь.
— Я — нет. Мое наслаждение искусством не отречение. Я в гостях у прекрасных творений; они дают мне опьянение и силу.
— А если они когда-нибудь не будут больше делать этого?
Джина с тревожным лицом следила за приближением грозы. Венеция лежала призрачной белой, как мел, полосой между небом и серовато-голубой лагуной.
— Тогда, — ответила герцогиня, откидывая назад голову, — тогда я пойду дальше.
Клелия пришла в глубоком трауре, молодившем ее. Под густой вуалью блестели ее золотые волосы, точно спрятанное сокровище. Она привела с собой фрау Беттину Гальм. Герцогиня сидела у бассейна в зале Минервы.
— Значит, вы были знакомы и прежде?
— Беттина моя подруга, как ее муж мой друг, — пояснила Клелия. — Я пригласила ее.
— Вы живете не у вашего мужа?
— О, нет.
— Вы видели его?
— Мы были сегодня вместе у него, — сказала фрау Гельм и вдруг уставилась глазами в свои колени. При этом она улыбалась пустой и боязливой улыбкой. Герцогиня была поражена ее видом. Голова с покрытым пятнами лицом, бесцветными глазами и редкими льняными волосами увенчивала высокую фигуру, полные плечи и большой бюст; и только она одна, казалось, исхудала от горя, которое ей причиняло ее безобразие.
Герцогиня подумала:
«Бедная женщина, некрасивая и недалекая! Она позволяет Клелии эксплуатировать себя. И супруга и любовница, соединившиеся против меня, едва осмелились предстать перед Якобусом. Бедные женщины!.. Я скажу им что-нибудь любезное».
Клелия отнеслась к этому холодно. Беттина благодарно. Не клеившийся разговор был прерван приходом Джины с сыном. Госпожа де Мортейль ушла с ними в другую комнату. Фрау Гальм сейчас же наклонилась вперед и тихо и фамильярно сказала:
— Она думает, что обманывает меня. Она очень незначительна, бедняжка. Простите эту комедию, герцогиня!
— Я, кажется, понимаю, о какой комедии вы говорите. Но все-таки объясните мне.
— Она хотела заставить меня поверить, что мой муж в опасности. Будто бы вы грозите ему опасностью. Не обижайтесь, ведь это глупая ложь.
— Значит, вы не дружны с ней?
— Что вы! Ведь он писал мне, что она мучит его!
— Он пишет вам?
— Конечно!
Она откинула назад плечи, лицо ее приняло чрезвычайно надменное выражение. Голова затряслась от напряжения. Она судорожно впилась взглядом в глаза герцогини, но вдруг отвела его, робко и растерянно посмотрела по сторонам, точно застигнутая врасплох, и наконец опять уставилась на свои колени. Оправившись, она сказала:
— Вы, вероятно, думаете, что он плохо обращается со мной? О, я должна уверить вас, что он эгоист. Та хочет этого; ее легко понять, не правда ли? Я понимаю все, я не глупа… К тому же, как я уже сказала, Якобус пишет мне. Часто, когда на душе у него тяжело, он спрашивает у меня совета.