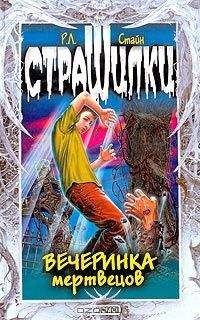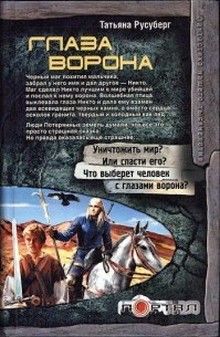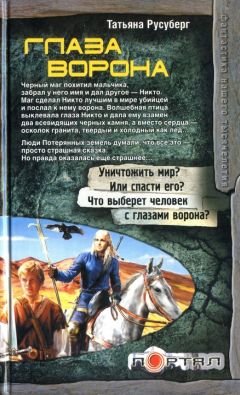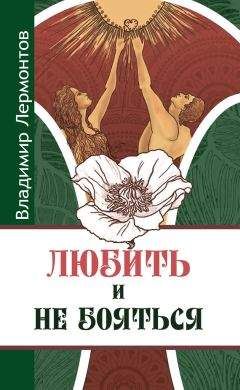Лидия Червинская - Невидимая птица
Списываю почти наудачу небольшое стихотворение из «Рассветов»:
Все помню – без воспоминаний,
И в этом счастье пустоты,
Март осторожный, грустный, ранний,
Меня поддерживаешь ты.
Я не люблю. Но отчего же
Так бьется сердце, не любя?
Читаю тихо, про себя:
«Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется….»
Едва ли,
Едва ли лучше, до – печали,
До – гордости, до – униженья,
До – нелюбви к своим слезам…
До – пониманья, до – прощенья,
До – верности, Онегин, Вам.
Одно из определений поэзии Червинской, которое случайно пришлось слышать: «хотела хоть на несчастье построить жизнь, да и то не вышло»… Очень верно! Но «Рассветы» не сентиментально-жалобный, расплывчатый рассказ о жизненном крушении, а умный и даже отчетливо «волевой» подбор слов, в котором этот «жизненный случай» навсегда запечатлен. Как всякая поэзия, – о чем бы она не говорила. <…>
Газета «Последние новости». Париж. 1937,17июня, № 5927.
Юрий Терапиано. О новых книгах стихов
<…> Стихи Л. Червинской, собранные в книгу «Рассветы», почти все появлялись в свое время в различных изданиях, о них иного писали и спорили – признак сам по себе хороший. Можно по-разному воспринимать тематику и стилистику Червинской, ее манеру – внешне как бы нарочито небрежную, стоящую почти на грани записи, дневника, личного высказывания, но трудно с первых же строф не почувствовать, что Червинская, прежде всего, поэт очень индивидуальный. Влияние А. Ахматовой на последующие поколения поэтесс было тем более губительным, что дело осложнилось особенностями женской психики. Женщина по своему существу тесно связана с темой Ахматовой – темой любовной, – и вот на долгие годы вся женская поэзия была отравлена влиянием Ахматовой, ее колея оказалась настолько глубокой, что никому – подчас очень одаренным поэтессам, не удавалось остаться самой собою. Червинская была первой и, пожалуй, пока единственной, оказавшейся в состоянии найти свое личное выражение тем, дать самостоятельное и новое, в смысле ощущения, в смысле внешней формы. Червинская очень точна и сдержанна в выборе, в чувстве слова; ее небрежные, на первый взгляд почти лишенные «стихотворных признаков» строки, оказываются, по проверке – наиболее точно передающими то, что она хочет сказать. Червинская очень чувствует все оттенки слова — и разнообразнейшая интонация, убедительная и доходящая в нужный момент до читателя – ее ценное открытие. Стихи Червинской человечны. Ее лиризм, сдержанный, грустный, какой-то просветленный, вполне избегает позы, декламации, перегруженности метафорами – которые иногда так портят стихи некоторых талантливых поэтов. Отданье себя, отказ, отблеск внутреннего тепла и верности, верности, несмотря на все, чему-то главному (Червинская глубоко права, не вполне договаривая – чему), составляют основную прелесть ее поэзии. <…>
Альманах «Круг». Кн. 2. Париж, 1937.
Альфред Бем. Поэзия Л. Червинской
(Лидия Червинская.Рассветы Стихи. Париж, 1937)
Мне не раз приходилось выступать против так наз. «парижского» направления эмигрантской поэзии. Но никогда я не отрицал талантливости отдельных, наиболее ярких ее представителей. Вопрос шел о направлении, о путях поэзии. Я остаюсь при убеждении, что путь этот глубоко ошибочен, что ведет он неизбежно к тупику, и чем упорнее будут его держаться, тем труднее будет сторонникам этого направления, при всей их индивидуальной одаренности, найти выход из тупика. Жизнь начинает, скорее к моему огорчению, чем к радости, мое мнение подтверждать.
Передо мною лежит книжечка стихов Лидии Червинской «Рассветы». Я склонен считать Л. Червинскую наиболее ярким и, пожалуй, наиболее талантливым представителем «парижского направления» в ее молодой части. Ее «Приближения» (1934 г.) звучали почти вызовом и до известной меры определили собою характер всего движения. Уже одно это говорит о незаурядном ее даровании. Удача или неудача Л. Червинской как поэта имеет поэтому существенное значение для дальнейшей судьбы «дневниковой поэзии». Новая книга ее стихов «Рассветы» (Париж, 1937) ясно показывает, что возможности поэзии этого рода уже исчерпаны. За весьма короткое время успели создаться штампы, выработалась манера, даже почти «манерность», закрепилась тематика и определились четко формальные особенности стиля. Досадно, что Л. Червинская, которая в «Приближениях» прокладывала путь этому направлению, сейчас повторяет себя и повторяет своих подражателей.
Приглушенные интонации, недоуменно-вопросительные обороты, неожиданный афоризм, точно умещающийся в одну-две строки («все возникает только в боли, все воплощается в тоске»), игра в «скобочки», нарочитая простота словаря и разорванный синтаксис (множество недоговоренных и оборванных строк, обилие вводных предложений, отсюда — любимый знак — тире) — вот почти весь репертуар литературных приемов «дневниковой» поэзии. Выработав литературную манеру, поэзия интимности и простоты неизбежно убивает самое себя. Ибо весь ее смысл был в том, чтобы вырваться из литературщины, даже больше: перестать быть литературой вообще. Борьба с «красивостью», с литературными условностями кончилась тем, что «дневниковая» поэзия впала в худшую поэтическую условность – в манерность и позу.
Отрицая на словах всякую идеологию в поэзии, это направление на деле пропитано совершенно определенной идеологией, которая придает ей особый привкус. Георгий Иванов очень удачно назвал душевное состояние, характеризующее носителей этой идеологии: распад атома. Распадение целостности личности, потеря опоры в сверхличных ценностях, разъедающий самоанализ и невозможность ни на чем закрепиться – все это создает своеобразную душевную настроенность. Парижские «ничегоки» («ничего», «кажется» и «может быть» – любимые словечки их поэтического словаря) с упорством повторяют поэтические формулы, которые свидетельствуют только об их внутреннем неблагополучии и вовсе не отражают «болезни века». И совершенно непонятно, в какой русской среде их поэзия может найти отклик. Русский декаданс далеко позади, «чертовы качели» – воспоминание нашей юности, а современность и по сю и по ту сторону – меньше всего могла бы питать настроения «конца века». Нужны какие-то особые, странные, поистине «монпарнасские» условия, в которых эти настроения находят питательные соки. Книжечка стихов Л. Червинской это — «голый человек на голой земле». Никаких признаков времени, никаких ощутимых следов реальной жизни. Дело происходит в каком-то фантастическом Париже, условно «монпарнасском», загадочном и странном.
Очень странно. Особенно странно
То, что в странности прочно живем.
Да, очень прочно, безвыходно прочно, совсем как дома, расположился герой этой загадочной жизни в этом странном мире. Он точно несколько досадует, что в этом городе «умирают. Рождаются дети», что сюда приезжают и уезжают, что здесь встречают на вокзале и целуются, одним словом, живут реальной жизнью реальных людей. Ему это все недоступно. Или, вернее, доступно… и все это и с ним случается (очевидно, по человеческой слабости), но он сейчас же вспоминает, что:
Не стоит уезжать и возвращаться,
Не стоит на вокзале целоваться
И плакать у вагонного окна.
Не стоит…
Надоело притворяться:
Бессильны деньги, и любовь скучна,
Хотя и грустно в этом признаваться…
По существу же, страшно досадно и завидно, что существует еще этот обыкновенный человек, живущий подлинной, непритворной жизнью. Много дал бы герой за возвращение к утерянной цельности:
Хочется верности, денег, величия,
Попросту – жизни самой.
От бесприютности, от безразличия
Тянет в чужую Россию – домой…
По человечеству, это понятно и – в порядке личном – даже вызовет сочувствие, – но досадно, что и здесь не без выверта, не без поэтического кокетства: в «чужую Россию – домой», ведь это же сделано для большего впечатления, на удивление! Особенно неприятны в поэзии Л. Червинской постоянные срывы от подлинной трагичности к кокетству трагичностью. Это не гейневская горькая ирония, а какое-то безответственное кокетничанье своим отчаянием. «Совесть – что это такое?» спросит автор в привычной недоуменно-вопросительной интонации. И тут же готов литературный, никак не связанный с подлинной душевной жизнью ответ: