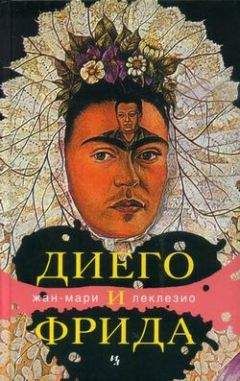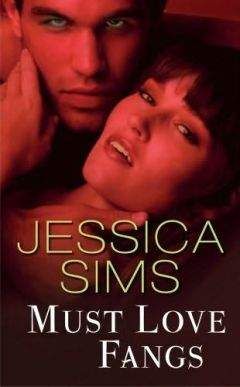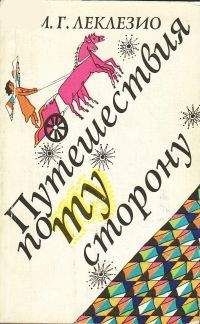Жан-Мари Густав Леклезио - Протокол
Во внешнем мире, должно быть, еще светило солнце; возможно, половина неба осталась чистой, а другую заволокли мелкие клочковатые облачка. Все это было остальным городом; чувствовалось, что вокруг, в концентрических кругах, за стенами, живут люди; улиц было много, и шли они в разные стороны, деля группы домов на треугольники и четырехугольники; эти улицы были заполнены машинами и велосипедами. В глубине кварталов все повторялось. Метров через сто можно было почти наверняка увидеть ту же планировку, с тем же углом основания 35° и магазинами, гаражами, табачными лавками и кожгалантереями. Адам мысленно составлял свою схему, добавляя много чего другого. Если взять, к примеру, угол в 48°3′, его наверняка можно будет пристроить куда-нибудь на План. В Чикаго наверняка найдется площадь под этот угол; когда его отыщут, достаточно будет взглянуть на рисунок, и сразу станет ясно, что следует делать. На этот счет Адам никогда не сомневался. Трудней всего было с изгибами; он не знал, как реагировать. Лучше всего составить график; круг, это проще: достаточно сотворить квадратуру (по мере возможности, конечно) и превратить круг в многоугольник; в этот момент появляются углы, и ты спасен. Можно, к примеру, продлить сторону GH многоугольника и получить прямую. А продлив две стороны, GH и KL, выйти на равносторонний треугольник GLz, а уж с ним-то понятно, что делать.
Мир, как пижама Адама, был расчерчен прямыми, тангенсами, векторами, многоугольниками, прямоугольниками, трапециями всех видов, и сеть была идеальна; не осталось ни единого клочка земли, ни сантиметра морской поверхности, которые не были бы разделены очень точно и не могли быть сведены к проекции или схеме.
Короче говоря, достаточно было нарисовать на листе бумаги стосторонний многоугольник, чтобы найти дорогу в любой точке земного шара. Идя по улицам и следуя собственной векторной подсказке, удалось бы даже — чем черт не шутит? — добраться до Америки или Австралии. В Чжоу-Чжене, что на Чжане, пустая хижина со стенами из папируса солнечными днями и прохладными ночами, в ласковом шелесте листвы, терпеливо ждет мессию-геометра-землемера, который явится в один прекрасный день со своим верным компасом в руке и сообщит, какой именно тупой угол делит дом на части. И расскажет о множестве других углов в Ньяссаленде[34], Уругвае и Веркоре, повсюду в мире, на просторах растрескавшихся сухих земель, между кустами дрока, на пространствах, кишащих углами, квадратами, роковыми, как смертельные метки, прямыми, разрывающими небо у горизонта наподобие молний. Пришлось бы побывать всюду. Понадобились бы надежный план и вера; безграничная вера в Планиметрию и Ненависть ко всему, что изгибается, струится, горделиво колышется, к кругу или оконечности.
В этот самый момент вливающийся через окно в комнату свет дня мечется взад и вперед, вправо и влево, обвивает Адама искрящимся покрывалом, и он еще больше съеживается; он всматривается в себя и напряженно вслушивается, чувствуя, что растет, увеличивается в размерах, становится огромным; он провидит стены, продолжающиеся прямыми линиями, уходящими в бесконечность, квадраты, громоздящиеся друг на друга, все выше и выше, незаметно увеличиваясь в размерах; постепенно вся земля покрылась этими каракулями, линии и плоскости перекрещивались, щелкая, как выстрелы, отмеченные на пересечениях огромными, падавшими, как снежинки, искрами, а он, Адам Полло, Адам П…, Адам, отрезанный ломоть клана Полло, находился в центре, в самом сердце, с законченным чертежом, и мог пуститься в дорогу, и идти от угла к углу, от сегмента к вектору, и называть прямые, прочерчивая буквы на земле указательным пальцем: хх', уу', zz', аа' и т. д.
Адам без малейшего труда отвел взгляд от восьмого пересечения прутьев и откинулся назад на кровати. Он сказал себе, что у него есть два-три часа до ужина. Потом он выкурит последнюю сигарету и поспит. Он просил бумагу и черную шариковую ручку, но это было наверняка запрещено, потому что сестра ничего не сказала — ни утром, ни в полдень. Впрочем, он понимал, что писать ему практически нечего. Он больше не желал утомлять себя. Хотел пить, есть, мочиться, спать и т. д. в отведенное для этого время, в прохладе, чистоте, тишине и подобии комфорта. Он смутно ощущал, что вокруг растут деревья. Возможно, однажды ему позволят выйти в пижаме в сад. И он украдкой вырежет свое имя на стволах деревьев, как сделала та девушка, Сесиль Ж., на листе кактуса. Он украдет вилку и изобразит имя латинскими буквами. Надпись постепенно затянется, как шрам, на солнце и дожде, и сохранится надолго, на двенадцать, двадцать лет, пока будут живы деревья:
АДАМ ПОЛЛО АДАМ ПОЛЛО
Он убрал подушку и лег головой прямо на матрас; потом вытянул ноги, и они свесились с кровати. Ночной столик находился справа, у изголовья; это была этажерка без дверец с выдвижными жестяными полками. На первой стоял 1 ночной горшок, пустой. На второй лежали: солнечные очки в золотистой металлической оправе. 1 флакон успокоительного на основе пассифлоры и хинина. 1 сигарета. Спичек не было — чтобы закурить, требовалось позвать дежурную сестру. 1 носовой платок. «Ла Сарр и его судьба» Жака Диркса-Дилли из больничной библиотеки. 1 выпитый до половины стакан воды. 1 белая расческа, 1 вырезанная из журнала фотография Зазы Габор. Вся спартанская обстановка палаты предназначалась исключительно Адаму, который лежал задом наперед на кровати, раскинув руки и сомкнув ноги, словно распятый, в томной апатии.
Незадолго до 6 вечера, много позже после того, как он покурил и в некотором смысле подумал, щелкнул замок и вошла сестра. Адам спал, и ей пришлось тронуть его за плечо, чтобы разбудить. Сестра была молодая и приветливая, но обтягивающая униформа не позволяла определить ни сколько ей лет, ни насколько она хороша и хороша ли вообще. Ее волосы были выкрашены в янтарно-рыжий цвет, а белая кожа выделялась пятном на фоне бежевых стен.
Она молча подняла с пола пластмассовую пепельницу и выбросила окурки в мусорное ведро. Время в этом месте текло небыстро: поза, которую вдруг приняла сестра по непонятным, выработанным за тысячи часов обслуживания душевнобольных причинам, была нелепой, даже абсурдной: ее фигура четырежды отразилась на образующих единый экран стенах; тело переломилось на уровне бедер и застыло на неопределенное время. Оно напомнило о тяжелой работе и горестной жизни, о голодных днях, упадке и старости. Уничтожило все цвета в пользу размыто-черного. Оно свело бы с ума любого, имевшего несчастье заметить его и закрыть глаза; цвета поменялись местами — белое лицо и белый фартук стали чернильно-черными, бывшие желтыми стены превратились в аспидные, все свежие и спокойные тона в одно мгновение переменились на адские и жестокие. Кошмар приближался, сжимал виски, уменьшал или растягивал каждый предмет по своему усмотрению. Давешняя женщина была теперь медиумом, довершающим ужаснейший бред: страх стать действительно сумасшедшим. Она цеплялась за сетчатку, как корень, множа свои лица до бесконечности. Ее огромные глаза напоминали пещеры. Она возникала из темной пиросферы, рушила, как стекло, укрепления заднего плана, и нависала над имитацией реального мира в ожидании крошечных изменений. Ее форма медленно усыхала, позволяя увидеть кости; она напоминала сделанный пером рисунок, тиснение на змеиной коже; она была цифрой, нет, скорее странной буквой, заглавной Гаммой, пронзающей мозг насквозь. В несколько секунд она сгорела жарким огнем, перешла границы; медленно раскачиваясь, она замирала, механизировалась, превращаясь в обгоревшую ветку. Она звала уцепиться за ее муку, увековечить ее жест; Адам предпочел сесть на край кровати и безвольно дожидаться, когда сестра «отомрет» и скажет что-нибудь милое. Она спросила:
«Ну как, хорошо спали?»
Он ответил:
«Да, хорошо, спасибо…»
И добавил:
«Вы пришли убраться?»
Женщина передвинула ведро.
«Ну уж нет. Сегодня вы тоже немного поработаете, согласны? У больницы нет денег на уборщиц. Будьте умницей, застелите постель, а потом немного подметите. Я принесла вам швабру и совок. Договорились?»
«Договорились… — ответил Адам. — Но…» — Он с любопытством взглянул на молодую женщину.
«Но — я что, должен буду делать это каждый день?»
«Вот вы о чем, — покачала головой медсестра. — Каждое утро. — Сегодня — не совсем обычный день, вы новичок. Но с этого дня каждое утро, в десять — за работу. Будете благоразумны, скоро вас начнут выпускать, как всех остальных. Сможете гулять в саду, читать там, или копать грядки, или болтать с другими. Вы ведь хотите в сад? А? Вот увидите, вам здесь понравится. Вам будут поручать мелкие работы, станете плести корзины из лозы или что другое, красивое. Здесь даже столярная мастерская есть — с рубанками, электрическими пилами и всем прочим. Увидите, вам понравится. Конечно, если будете слушаться и делать все, что говорят. А теперь заправьте постель и подметите пол. Чтобы к посещению все было чисто».