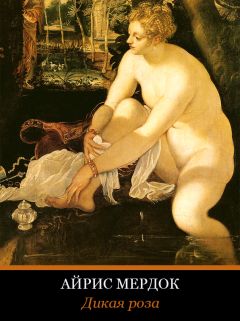Айрис Мердок - Дикая роза
Письмо это встревожило Феликса, и не только потому, что он лишний раз почувствовал, как дурно себя вел. Была тут и более глубокая причина. В своих отношениях с Мари-Лорой он не поставил точки. И самое скверное было то, что сейчас ему не хотелось эту точку ставить. По письму он ощутил её всю, с головы до ног, и понял, что для него она еще, безусловно, существует. Не хотелось просить её, чтобы она его забыла. А что ещё он мог ей написать, не кривя душой?
— Просто отказываюсь понять, — говорила Милдред. — Не для забавы же она туда поехала. Ты заметил, как смутился Хью? Ему было ужасно неприятно, что мы её там застали.
— Вполне естественно, — сказал Феликс. (Je crois voir comment vous vous raidissez en lisant ceci.)[18]
— Может быть, — сказала Милдред. — Милый Хью. Этой Эмме с её собачьим лицом он не достанется, я этого не допущу.
— А ты как думаешь, Хью догадывается о твоих добрых намерениях? (Vous préférez que les chosesarrivent sans avoir besoin d'être décidés.)[19]
— Разумеется, нет, мой милый! Он как новорожденный младенец, всегда таким был. Он воображает, что я большая, разумная, взрослая, этакий мохнатый старый друг, вроде Нэны из «Питера Пэна».[20]
Феликс рассмеялся.
— Так что его ждет сюрприз? (Je ne veux pas que tout finisse entre nous.)[21]
— Это если выйдет по-моему? Не уверена. Он может ничего и не узнать. Иногда мне кажется, что в этом была бы самая прелесть. Я хочу проглотить его так, чтобы он и не заметил.
— Что-нибудь он, вероятно, все же почувствует! Бренди хочешь, Милдред? Или куэнтро? (Mon beau Félix, je ne veux pas mourir à force d'être raisonnable).[22]
— Да, спасибо, немножко куэнтро. Завтрак был просто прелестный. Ах, Феликс, милый, как бы мне хотелось, чтобы ты был посмелее! Я могу вдохнуть в человека смелость, когда это может мне повредить, а когда мне это нужно — не могу. Я даже собственную смелость не могу проявить. Связана по рукам и по ногам.
— Я тоже, — сказал Феликс. — Закурить можно? (Je vous aime de tout mon être, je désire vous épouser, être avec vous pour toujours.)[23]
— Конечно, кури. Зачем ты вечно меня об этом спрашиваешь? А тебе нет нужды чувствовать себя связанным. Ты можешь поговорить с Энн без обиняков.
— Давай кончим об этом, хорошо? — сказал Феликс и тут же добавил: — Ты знаешь, по-моему, Миранда меня не любит. В прошлый раз мне опять это показалось. (Félix, Félix, souhaitez vous vraiment me revoir?)[24]
— Перестань выдумывать препятствия, — сказала Милдред. — Миранда не любит никого, кроме самой себя и, может быть, своего папаши. Она бы тебя стерпела. Честное слово, и так все достаточно трудно, так нечего ещё приплетать сюда Миранду. Нет, послушай моего совета. Если ты ждешь, чтобы Рэндл ушел официально, то рискуешь прождать до скончания века.
— Не знаю, — отозвался Феликс, оживляясь. — Не знаю.
— Могу тебе назвать одну причину, почему Рэндл никогда не уйдет, то есть не уйдет официально.
— Об этом я уже думал.
— Вот именно. В кармане пусто. Он просто не может смыться.
Феликс угрюмо помолчал.
— Ну, и что дальше?
Милдред задумалась.
— Может быть, предложить ему денег взаймы?
Феликс расхохотался.
— А ты знаешь, я думаю, он бы их принял!
— Конечно, принял бы. Во всяком случае, это можно бы сделать анонимно. Нет, серьезно, Феликс, как ты думаешь? Наверно, он бы запросил немало.
— Милдред, есть же все-таки предел!
— Разве? Говорят, на войне и в любви все средства хороши. А ты к тому же военный.
— Да. И на войне, слава богу, не все средства хороши, а когда будет так, я подам в отставку. И в любви то же самое.
— Война в наше время так страшна, что о хороших средствах говорить не приходится. А с любовью и всегда так было. Энн, вероятно, ждет не дождется, чтобы ты взял её штурмом.
— Не думаю, — отрезал Феликс.
— Ну а он не уйдет. У него нет денег. Он не уйдет, не может уйти. Вот так-то.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 18
— Они друг в друге души не чают, — сказал Рэндл.
Был поздний вечер. В квартире Хью на Бромтон-сквер шторы были задернуты. Днем Лондон задыхался от жары, а теперь над ним дрожала душная лиловая тьма, густая и неподвижная.
Хью и Рэндл вместе обедали, и пообедали на славу. А вернувшись из ресторана, пили бренди. К удивлению Хью, вечер прошел приятно. Когда Рэндл позвонил ему и предложил повидаться, он было заподозрил какой-то подвох. Но за обедом они говорили на всякие нейтральные темы и так сумели найти прежний товарищеский тон, что Хью уже готов был поверить, что Рэндл только для этого и пришел к нему. Лишь теперь, совсем поздно, прозвучали имена обеих женщин. Хью взглянул на часы.
В последнее время Хью только тем и был занят, что думал об Эмме, и, хотя многие из его мыслей были тягостны, в целом занятие это было радостью, а его собственная увлеченность — чудом. Он, конечно, по-прежнему бродил в потемках. Он не только не знал, что думает Эмма, но не знал в точности, чего сам хочет, в точности — не знал. Но он твердо знал, в какую сторону идти, и шел в эту сторону один, спотыкаясь, под знаменем, на котором были начертаны слова «Свобода» и «Голод».
Ибо Хью оказался более или менее в положении человека, который, будучи выпущен из тюрьмы, после первого бурного взрыва радости обнаружил, что хоть он и свободен, но свободен только умереть с голоду. Самое чувство освобождения не переставало его удивлять — ведь пока Фанни была жива, он вовсе не считал себя узником. Но теперь открытость мира ошеломила, ослепила его, он чувствовал слабость от избытка свежего воздуха. Однако это повлекло за собой и новые запросы.
Как пожилой женатый человек, живущий в привычном кругу словно бы любящей его семьи, он давно закоснел в эмоциональной рутине, которая стала рутиной до такой степени, что эмоции были в ней едва различимы. Теперь же, хотя все, кто любил его, кроме одного человека, остались на своих местах, ему их уже было мало. Хью чувствовал, что изголодался по новым встречам и неожиданностям, по взглядам глаза в глаза, поединкам душ и внезапным самозабвенным привязанностям.
Возобновление знакомства с Эммой во многом обмануло его ожидания. Да, она оказалась старее, чем он мог предположить, в каком-то смысле она была даже старше его. Если он мог вообразить, что, так сказать, унесется с Эммой в вальсе, это, конечно, было иллюзией. Эмма изменилась, в ней появилось что-то покорное и угрюмое, недоступное его пониманию. И все же это была прежняя Эмма, и смутное сострадание к ней лишь придавало особую остроту давнишнему признанию её превосходства. А больше всего его волновала абсолютная непосредственность их общения, позволявшая ему ощутить соленый вкус реальности, которой он так жаждал.
Но что Эмме нужно? Ее поведение сбивало его с толку. Она была рада его видеть, отчасти, вероятно, даже скрывала свою радость. И в то же время подчеркнуто удерживала его на расстоянии. Он был в восторге, когда она выразила желание поехать в Грэйхеллок, хотя немного и стыдился везти её туда. А уж там она держалась совсем необъяснимо. Прогнала его с глаз долой, а сама часами, и до и после завтрака, разговаривала с Энн, с детьми, с кем угодно, только не с ним. И ещё как на грех это появление Милдред с её компанией, и вздернутые брови Милдред, и посахаренные шуточки Эммы… У Финчей хватило такта отказаться от завтрака, но последний час перед завтраком они заняли целиком, и Хью пришлось выслушивать болтовню Милдред о каких-то выставках в Лондоне и прочей чепухе, а краешком глаза он видел, как Эмма исчезла за буками — её вел под руку этот Феликс Мичем. За весь день ему было хорошо только в дороге, когда он на спокойных участках держал Эмму за руку и они говорили о прошлом.
Она не захотела с ним пообедать, и он доставил её домой в самом начале восьмого. Линдзи Риммер встретила их бурей восторгов, а Эмму расцеловала так, словно та уезжала на целый год. Нескромные изъявления любви с той и с другой стороны смутили Хью, но он присмотрелся к Линдзи и нашел, что она очень хороша собой. Возвращение Эммы явно её взбудоражило, и они много смеялись. С тех пор Хью только дважды было разрешено посетить Эмму — его приглашали к чаю, и оба раза Линдзи почти не выходила из комнаты. Хью волновался, сердился, не находил себе места, а потом решил, что этому нужно «положить конец». Но задача была не из легких, поскольку он сознавал, что даже отдаленно не понимает, чему именно следует положить конец.
Теперь, когда Рэндл наконец назвал этих двух женщин, Хью даже почувствовал облегчение. Уже достаточно поздно, для пространных разговоров времени не осталось, а расстаться, вовсе о них не упомянув, было бы очень уж неестественно. К тому же первую часть вечера они провели так дружно, что сейчас упоминание скользкой темы могло эту самую тему облагородить. Хью терпеть не мог скользких недомолвок.