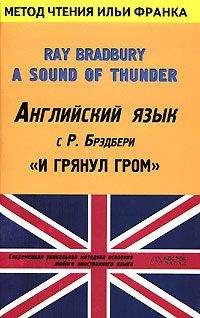Василий Смирнов - Открытие мира (Весь роман в одной книге)
Ах, снять бы сейчас рубашку, штаны, сдернуть башмаки и очутиться в студеном Гремце! С великой завистью наблюдает Шурка, как безмятежно полощутся в бочаге гуси Вани Духа. Хорошо им жить, краснолапым: обуваться не надо, картуз носить не надо, в церковь идти не надо…
— Теги, теги, теги… — тихонько кличет Шурка.
Гуси не отвечают, до того им хорошо в Гремце.
На мосту народ обгоняет, гремя железом и обдавая пылью, тарантас, запряженный парой. Он набит расфранченными девками. Правит саврасыми лошадьми знакомый Шурке молодец в плоской соломенной шляпе и клеенчатом «кожане» внакидку. Одна нога у молодца спущена с передка тарантаса, и всем отлично видны заутюженная светло — коричневая брючина, клетчатый носок и желтый ботинок в новой сверкающей галоше.
— Мишка Бородулин женихаться прикатил, — говорит отец, сторонясь от пыли. — Ишь ты, в кожане и галошах… ровно путный человек. А самого с места прогнали, из трактира. Проворовался, должно. Гнилыми грушами теперь с лотка торгует, форсун беспортошный!
Шурка даже остановился. Вот так Император! Но ведь у него кольца золотые с драгоценными камнями. Как же так? Шурка хочет спросить у отца и не успевает — внимание привлекло другое, более важное.
За Гремцом, у церковной ограды, в тени сосен торговцы натягивают белые полотняные палатки и сколачивают тесовые ларьки. Слышны удары по кольям, визг ручной пилы, сдержанный говор. Под кустом можжухи дымит, подогреваемый сосновыми шишками, трехведерный самовар квасника. Стая ребятишек летает от палатки к палатке, плюясь семечками. Хлопают первые, робкие выстрелы пугачей и пистолетов, только что приобретенных, пробуемых общими силами. И жестяной игрушечный петух пронзительно кричит во рту какого‑то курносого счастливца.
Видать, на славу нынче будет праздничное гулянье. Не зевай, припасай копейки и пятаки — есть чем угоститься, есть что купить на память о тихвинской.
Шурка, как теленок, брыкается и скачет возле матери, норовя сорваться с привязи. Однако материны пальцы еще крепче сжимают его руку.
— Успеешь штаны изорвать. Лоб‑то спервоначалу перекрести.
Под холстяным просторным навесом гремит ящиками Устин Павлыч Быков, сияя очками. Рукава чесучовой рубашки засучены по локти, ворот расстегнут, синий суконный картуз сбит на затылок. Белоснежный фартук надулся парусом.
Шурка вспоминает вчерашний гнев отца на полосе, его брань и угрозы. Настало время расплаты с лавочником. Сейчас, при всем народе, отец схватит Быкова за ворот, плюнет ему, как обещал, в жирные щеки и примется дубасить. Вот он перебрасывает для удобства трость в левую руку и поднимает правую… Шурка жмурится.
— Устину Павлычу… сорок одно с кисточкой! — вдруг слышит он веселый, но какой‑то чужой, лебезящий голос.
Раскрыл Шурка глаза и остолбенел: сняв котелок, отец кланяется белоснежному Быкову фартуку.
Неужто и Шуркин батька, как и все, говорит не то, что думает, делает не то, что хочет?
— С приездом, Николай Александрыч, с приездом, дорогой! — как всегда, ласково воркует Быков, протягивая из‑за прилавка короткую пухлую ручку. Отец долго трясет ее. — Как жизнь в Питере?
— Живем не пышно, нигде не слышно, — смеется отец, крутя трость.
— Знаем — с… Хо — хо, знаем — с… Потихонечку работаете, полегонечку капиталы наживаете!
Перегнувшись через прилавок, вскинув очки на лоб, Быков таинственно сообщает:
— Косы — литовки достал, золотое клеймо. Хоть брейся… Дешевка!
— Отложь парочку.
Перекрестившись на паперть, отец идет к магазее, где под навесом толпятся мужики, курят и калякают.
Мать отходит с Шуркой за ограду, к бабам. Служба в церкви еще не начиналась. Бабы, загнув подолы праздничных платьев, чтобы ненароком не испачкаться, сидят группами на могилках и шушукаются. Мать присоединяется к знакомым, с облегчением сажает Ванятку на бугорок.
О чем только не говорят бабы! Устанешь слушать. Шурка пробует еще раз отпроситься погулять, но получает решительный отказ. Тогда он требует, чтобы мать отвела его к отцу.
У магазеи, под навесом, крики и ругань, будто на сходке. Сельские мужики окружили глебовских, наседают, прямо к стене прижали, того и гляди, бить начнут.
— Ворье!
— Чужим живете!
— Только выйдите на луг — ноги обломаем!
— Ах, суседи!..
«И дался же им этот луг! — думает Шурка, с неудовольствием примечая, как взлетает отцова трость над чьей‑то взъерошенной головой. — Тут пряниками торгуют, орехами, а они про траву…»
— Бога забыли?! — кричит, бранясь и расталкивая мужиков, Василий Апостол. Белая борода его так и летает под навесом. — Это вам кабак али храм божий?.. Покарает господь, покарает, анафемы, дождетесь!
И, точно напугавшись угрозы Василия Апостола, мужики, ворча, бредут на паперть.
В церкви, за обедней, Шурку развлекают некоторое время большие, разноцветного стекла, дымные лампады и толстые оплывающие свечи. Он таращится на блеск бесчисленных огней и, как всегда, дивится длиннополым одеждам попа и дьякона. Его занимает мысль, есть ли у них штаны, или поп и дьякон постоянно ходят в этих неловких, золоченых и суконных мешках?
С икон строго смотрят на Шурку темные бородатые лица святых. Они хмуры, недовольны, и Шурка их побаивается. Должно быть, им холодно висеть на стенах в церкви, потому они и любят тепло лампад и свечей, которые жгут перед ними постоянно. А еще любят, чтобы им кланялись. И если хорошенько покланяться, помолиться — они сделают все, о чем просишь.
«А вот ружье батя не привез, — вспоминается Шурке, — хотя я здорово просил бога… Неужто он с батькой не совладал?»
Над головой Шурки горит паникадило. Вот бы на улицу такую прорву огня — пожалуй, деревня осветится, как на пожаре. Нравятся ему также картины, нарисованные по краям высокого, куполом, потолка. Сивобородые, на одно лицо старики, смешно одетые, будто завернувшиеся в одеяла, бродят там босиком по облакам, ссорятся между собой, пьют вино, закусывая краснобокими яблоками. А вокруг них по небу летают голые крылатые ребятишки — ангелы и, надо быть, выпрашивают кусочки: «Дяденька, дай…»
Задрав вверх голову, Шурка разглядывает картины, придумывая по ним разные истории, пока не стало больно шее и мать не толкнула его в загорбок, приказывая креститься. Шурка молотит себя правой рукой по лбу, животу и плечам. Устает рука. Разве попробовать левой? А еще хуже вставать на колени и кланяться до самого холодного каменного пола.
Шурка размышляет, как избавиться от такого наказания. Дым ладана, копоть лампад и свечей начинают щипать глаза. Першит в горле.
Внезапно ему кажется, что в животе у него урчит. Он деловито ощупывает напуск матроски, прислушивается.
На клиросе певчие дерут глотки что есть мочи. Дьякон на амвоне, подняв выше головы руку с заложенным за два пальца парчовым полотенцем, ревет басом, как встречный пароход на Волге. Конечно, ничего не слышно, что делается в животе. Тем не менее Шурка всем своим взволнованным существом явственно чувствует знакомое, радующее: бу — бу — бу…
Так и есть, больно. Вот уж и под ложечкой прямо ножом режет. О — ох!
Страдальчески морщась и бережно поддерживая обеими руками живот, Шурка начинает часто оглядываться.
— Ну, чего ты? — тревожно спрашивает мать, отрываясь от моленья.
— Брюхо болит… до ветру смерть хочется…
Стойко выдерживает синие молнии рассерженных материных глаз. Физиономия у Шурки самая невинная. «Да, да, болит живот, — говорит она, и ничего тут не поделаешь».
— Ишь тебя не вовремя! Сказывала, объешься пряженцами! — шипит мать и легонько поддает под зад свободной рукой. — Иди… Да смотри у меня… сей минутой обратно.
Шурка врезается в толпу баб. Терпкие запахи нафталина, репейного масла, пота и дегтя обрушиваются на него. Стараясь не дышать носом и здорово работая башмаками, Шурка головой прокладывает себе дорогу. Подолы шерстяных сборчатых юбок хлещут его, кованые каблуки мужицких сапожищ грозят отщемить ступни.
Второпях налетает Шурка на медное блюдо церковного старосты, совершающего обход молящихся прихожан. Со звоном летят на пол грошики и копейки.
— Вот я тебя, стервец!
Но Шурка уже одолевает на паперти последние препятствия — каменных старух и нищих.
— Уф — ф!
Приветливо светит солнышко. Весело тараторят на колокольне галки. Звонко гремят в роще последние удары хлопотливых лавочницких топоров. Откуда‑то, должно быть с Волги, набежал гуляка — ветер и треплет густую листву могучих кладбищенских берез.
— А — ах! — вздыхает Шурка всей грудью.
Точно из затхлого, темного подполья вырвался он и никак не надышится, не насмотрится на этот обычный, но такой светлый, живой мир.
Так хорошо вокруг, что даже живот это чувствует, совестится беспокоить Шурку и перестает болеть.