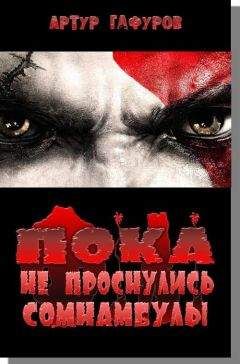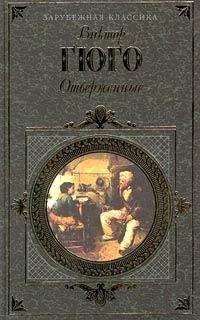Виктор Гюго - Отверженные
Но это не остановило импровизации Толомьеса; он допил свой стакан, снова наполнил его и продолжал:
— Долой рассудок! Забудьте все сказанное. Не будем предусмотрительны, ни чопорны, ни щепетильны. Пью за веселье! Будем веселы! Пополним курс наук питьем и едой. Да здравствует процесс судоговорения и пищеварения! Юстиниан да будет мужем, а прожорливость женой! Радуйся и веселись все живущее. Живи! О ты, царь природы! Мир — бриллиант. Птицы — его певцы. Везде ликование. О лето, приветствую тебя. О Люксембург! О георгины улицы Мадам и аллеи Обсерватории! О мечтательные воины. О прелестные няни, охраняющие детей и развлекающиеся сочинением новых малюток! Американские пампасы манили бы меня к себе, если бы у меня не было сводов Одеона. Моя душа летит в девственные леса и саванны. Все дивно. Мухи жужжат в сиянии. Солнце чихнуло, и вышел колибри. Фантина, поцелуй меня!
Он по ошибке обнял Февуриту.
VIII. Смерть лошади
— У Эдона лучше обедают, чем у Бомбарда, — заметила Зефина.
— А я отдаю предпочтение Бомбарде перед Эдоном, — объявил Блашвелль. — У него более роскоши. Более в восточном вкусе. Посмотри на нижний зал. Стены в зеркалах.
— Предпочитаю их[13] у себя на тарелке, — сказала Февурита.
Блашвелль не обратил внимания на возражение.
— Взгляните на ножи. У Бомбарда черенки серебряные, у Эдона костяные. Серебро ценнее кости.
— Для всех, за исключением тех, у кого серебряная челюсть, — вставил Толомьес.
В эту минуту он созерцал купол дворца Инвалидов, видневшийся из окон Бомбарда. Возникла пауза.
— Толомьес, — крикнул ему Фамейль, — у нас с Листолье сейчас! был спор.
— Спор — дело похвальное, — ответил Толомьес, — но ссора еще лучше.
— У нас был спор о философии.
— Прекрасно.
— Кто, по-твоему, сильнее, Декарт или Спиноза{110}?
— Дезожье{111}, - сказал Толомьес. После произнесения такого приговора он хлебнул вина и продолжал:
— Я согласен жить. Еще не все утрачено на земле, пока можешь сумасбродствовать. Воссылаю благодарение бессмертным богам. Врешь, но смеешься. Утверждаешь — но сомневаешься. Силлогизм родит неожиданное. Великолепно. Существуют еще на земле смертные, умеющие весело раскрывать и закрывать ларец парадокса. То, что вы пьете, мадемуазель, в настоящее мгновенье, да будет вам известно: мадера из виноградников Кураль де Фрейрас, находящихся на высоте трехсот семнадцати туазов{112} над уровнем моря. Пейте со вниманием! Триста семнадцать, туазов — не шутка! И господин Бомбарда, щедрый трактирщик, сервирует вам триста семнадцать туазов за четыре франка пятьдесят сантимов!
Фамейль снова прервал его речь.
— Толомьес, твое мнение — закон. Кто твой любимый поэт?
— Бер…
— …кен?
— Нет — шу…
Толомьес продолжал:
— Слава Бомбарде! Он уподобился бы Мунофису Элефантскому, если бы преподнес мне алмею, и Тигелиону Херонейскому, если бы добыл мне гетеру{113}! О, мадемуазель, в Греции и Египте были Бомбарды. Апулей{114} сообщает нам это. Увы! Все старо, и ничего нет нового под луной. Ничего не осталось неизданного из произведений Творца! «Нет ничего нового под солнцем»{115}, - сказал Соломон. «Любовь у всех одна и та же», — говорит Виргилий. Карабина садится с Карабином в галиот{116} в Сен-Клу точно так же, как некогда Аспазия{117} всходила с Периклом{118} на самосскую триеру{119}. Последнее слово. Знаете ли вы, мадемуазель, кто была Аспазия? Хотя она жила еще в то время, когда в женщинах не признавалось души, в ней, однако, была душа; душа пурпурового цвета, горевшая ярче пламени, румянее зари! В Аспазии совмещались два противоположных предела женского типа: проститутка и богиня. Сократ{120} на подкладке Манон Леско. Аспазия была создана на случай, если Прометею понадобится непотребная женщина.
Толомьес, закусив удила, едва ли остановился бы сам, если бы в это мгновение на набережной не упала лошадь. Камень на мостовой разом остановил телегу и оратора. Это была старая тощая кобыла-першеронка, тащившая тяжело нагруженную телегу, под стать извозчику, сопровождавшему ее. Дотащившись до трактира Бомбарда, лошадь отказалась идти дальше. Этот случай привлек толпу. И только негодующий и ругающийся извозчик успел произнести приличное обстоятельству энергичное поощрение, подкрепленное немилосердным ударом кнута, как кляча повалилась на землю с тем, чтобы уже не вставать. Веселая компания сбежалась к окну на шум, поднявшийся в толпе зевак, и Толомьес воспользовался этим, чтобы заключить свои разглагольствования декламацией стихов:
Печальную судьбу одрам-тяжеловозам
Предначертал небесный царь.
И — роза среди кляч, — подобно майским розам,
Сломилась горестная тварь.
— Бедная лошадь, — вздохнула Фантина.
А Далия воскликнула:
— Ну вот, Фантина примется теперь оплакивать лошадь. Нельзя быть глупее этой дурочки!
Февурита, в это мгновение скрестив руки и запрокинув голову, решительно посмотрела на Толомьеса и спросила:
— Когда же, наконец, сюрприз?
— Как раз время для него наступило, — ответил Толомьес. — Господа, пробил час сделать сюрприз нашим дамам. Сударыни, подождите нас секундочку.
— Сюрприз начинается поцелуем.
— В лоб, — досказал Толомьес.
Молодые люди с серьезным видом приложились каждый к своей излюбленной, затем гуськом направились к дверям, приложив таинственно палец к губам.
Февурита напутствовала их хлопаньем в ладоши.
— Начинается забавно, — проговорила она.
— Не оставайтесь там долго, — промолвила Фантина. — Мы ждем вас.
IX. Веселый конец веселья
Девушки, оставшись одни, попарно поместились у подоконников, болтали, высовывались на улицу и перекидывались фразами из окна в окно.
Они видели, как молодые люди вышли под руку из трактира, обернулись, помахали, смеясь, рукой и исчезли в воскресной пыли и толпе, заливающей еженедельно Елисейские поля.
— Не оставайтесь долго! — кричала им вслед Фантина.
— Что такое они подарят нам? — спросила Зефина.
— Наверное, что-нибудь красивое, — сказала Далия.
— Я желаю, чтобы это было что-нибудь золотое, — вставила Февурита.
Вскоре их заняло движение на берегу реки, видное сквозь ветви деревьев и очень заинтересовавшее их. Это был час отъезда дилижансов и почтовых карет. Почти все почтовые экипажи, ходившие в южные и западные провинции, проезжали в то время через Елисейские поля. Путь большинства проходил по набережной и через заставу Пасси. Через каждые пять минут проезжала мимо какая-нибудь карета, окрашенная в черное с желтым, тяжело нагруженная, с безобразной связкой сундуков и чемоданов, с мелькавшими из окон головами; с грохотом катилась она по мостовой, высекая искры из камней, и мчалась сквозь толпу с бешеным шумом, в облаках пыли. Весь этот гам забавлял девушек.
— Экая трескотня! — восклицала Февурита. — Словно волочат целый ворох цепей.
Одна из карет приостановилась на минуту за купой вязов, отчасти заслонивших ее, а затем снова помчалась дальше. Это удивило Фантину.
— Странно, — заметила она, — я думала, что дилижансы не останавливаются.
Февурита пожала плечами.
— Что за смешная эта Фантина. На нее стоит ходить смотреть из любопытства. Она удивляется самым простейшим вещам. Ну, предположим, что вот я пассажир; я говорю дилижансу, что я пойду вперед и чтобы он меня посадил мимоходом на набережной. Дилижанс проезжает, видит меня и останавливается. Это делается ежедневно. Ты просто не знаешь жизни, моя милая.
Прошло таким образом некоторое время. Вдруг Февурита спохватилась.
— Ну а что же поделывает наш сюрприз?
— Действительно, где же наш знаменитый сюрприз? — повторила за ней Далия.
— Как их долго нет! — заметила Фантина.
Фантина едва успела проговорить свою жалобу, как вошел гарсон, подававший им обед. Он держал в руке что-то похожее на письмо.
— Это что такое? — спросила Февурита.
— Это бумага, оставленная теми господами для вас, — сказал слуга.
— Почему же вы не принесли ее тотчас?
— Потому что господа приказывали отдать только через час.
Февурита вырвала бумагу из рук гарсона. Оказалось письмо.
— Посмотрите, тут нет даже адреса, а написано вот что: «Сюрприз».
Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла следующее (она умела читать):
— «О, наши возлюбленные!
Узнайте, что мы имеем родителей. Родители — это вещь не совсем вам знакомая. Оную вещь закон гражданский, честный и пошлый именует «отцами и матерями». Эти вышеозначенные родители наши стонут и плачут, желают видеть нас; старички и старушки называют нас блудными сыновьями, требуют нашего возвращения и обещают заклать для нас упитанных тельцов. Мы повинуемся им, ибо мы добродетельны. В тот час, когда вы будете читать эти строки, пять ретивых коней будут мчать нас к нашим папенькам и маменькам. Мы удираем, как сказал Боссюэ. Мы едем; мы уехали. Мы уносимся в объятиях Лаффитта и на крыльях Кальяра{121}. Тулузский дилижанс спасет нас из бездны. Бездна — это вы, о наши милашки! Мы возвращаемся в общество, к долгу и порядку, вскачь, по три лье в час. Отечество требует, чтобы, по примеру всех живущих, мы превратились в префектов, в отцов семейств, в лесных сторожей или государственных советников. Уважайте нас. Мы приносим себя в жертву. Оплакивайте нас как можно меньше и замените нас как можно скорее. Если это письмо раздерет вам душу, вы тотчас отплатите ему тем же. Прощайте. Около двух лет мы составляли ваше счастье. Не поминайте нас лихом.