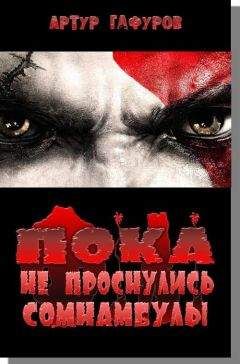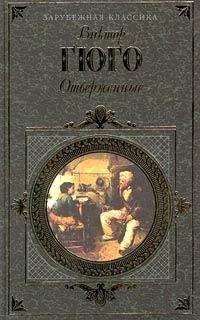Виктор Гюго - Отверженные
— Не знаю, — отвечала Козетта.
— И потом Туссен, — продолжал Жан Вальжан. — Она ушла, а вы ее никем не заменили. Почему это?
— Нам довольно и одной Николетты.
— Но вам нужна горничная.
— Разве у меня нет Мариуса?
— Вам нужно иметь собственный дом, держать прислугу, иметь карету, ложу в театре. Для вас ничто не может быть слишком хорошо. Почему бы вам не пользоваться своим богатством? Богатство — хорошее прибавление к счастью.
Козетта не ответила ни слова. Продолжительность посещений Жана Вальжана не только не сокращалась, а скорее наоборот, возрастала. Когда сердце начинает скользить по наклонной плоскости, то оно уже не останавливается.
Когда Жану Вальжану хотелось продолжать визит и заставить позабыть о времени, он начинал расхваливать Мариуса, он находил его красивым, благородным, смелым, остроумным, красноречивым, добрым. Козетта, в свою очередь, принималась хвалить его еще более. Это тянулось нескончаемо. Мариус служил им неистощимой темой для разговоров, шесть букв его имени давали им материал, которого хватило бы, чтоб исписать целые тома. Благодаря этой маленькой хитрости Жан Вальжан мог подолгу видеть Козетту, забываться около нее. Это было так приятно ему! Это было все равно, что целительный бальзам для его раны. Несколько раз случалось, что бискаец приходил по два раза и говорил:
— Господин Жильнорман прислал меня напомнить госпоже баронессе, что обед подан.
В эти дни Жан Вальжан возвращался домой очень задумчивый.
Однажды он остался дольше обыкновенного. На другой день он заметил, что в камине не было огня. «Ба! — подумал он. — Огня нет».
И он тотчас же сказал себе: «Это очень просто. Теперь апрель. Холода прекратились».
— Боже мой, как здесь холодно! — вскричала Козетта входя.
— Вовсе нет, — сказал Жан Вальжан.
— Значит, это вы не велели Баску разводить огня?
— Да. Теперь ведь почти что май месяц.
— Но тут надо топить до июня. В этом погребе надо топить круглый год.
— Я думал, что не нужно топить.
— Это тоже одна из ваших причуд! — вскричала Козетта.
На следующий день огонь в камине горел, но оба кресла стояли в противоположном конце комнаты, около двери.
«Что это значит?» — подумал Жан Вальжан. Он пошел за креслами и поставил их на обычное место около камина.
Тем не менее зажженный огонь придал ему мужество. Разговор продолжался дольше обыкновенного. Когда он собрался уходить, Козетта сказала ему:
— Муж мой сказал мне вчера очень странную вещь.
— Что такое?
— Он сказал мне: «Козетта, у нас тридцать тысяч годового дохода. Двадцать семь твоих и три дал мне дедушка». Я отвечала: «Это составит ровно тридцать». Он возразил: «Достанет ли у тебя смелости жить всего на три тысячи?» Я отвечала: «Да, и даже если бы у нас ничего не было, только бы жить с тобой». Потом я спросила: «Зачем ты мне говоришь все это?» Он отвечал мне: «Я хотел знать твое мнение».
Жан Вальжан не нашелся, что сказать на это. Козетта, по всей вероятности, ждала услышать от него какое-нибудь объяснение этих странных слов, он слушал ее и угрюмо молчал, а потом вернулся на улицу Омм Армэ; он был так углублен в свои мысли, что ошибся воротами и вошел в соседний дом. И, только уже поднимаясь на второй этаж, он заметил свою ошибку и вернулся назад.
Его ум был истерзан предположениями. Мариус, очевидно, сомневался в происхождении этих шестисот тысяч франков и боялся, что деньги получены не из чистого источника, кто знает, может быть, даже он догадался, что эти деньги принадлежали Жану Вальжану, и потому колебался, принять это подозрительное богатство или нет, предпочитая остаться с Козеттой бедными, чем пользоваться богатством сомнительного происхождения.
Вместе с тем Жан Вальжан начал чувствовать, что его как будто выпроваживают.
На следующий день вечером, войдя в низенький зал, он невольно вздрогнул: кресла исчезли. Не было даже ни одного стула.
— А! — вскричала Козетта входя. — Кресел нет! Где же кресла?
— Их нет здесь, — отвечал Жан Вальжан.
— Ну, это уж слишком!
Жан Вальжан пробормотал:
— Я велел Баску унести их.
— Зачем?
— Я пришел сегодня всего на несколько минут.
— Надолго вы пришли или нет, это вовсе не значит, что нужно все время стоять.
— Мне показалось, что Баску были нужны эти кресла в гостиной.
— Зачем?
— У вас сегодня вечером, по всей вероятности, будут гости.
— Нет, у нас никого не будет.
Жан Вальжан не мог сказать больше ни одного слова.
Козетта пожала плечами.
— Приказать унести кресла! В прошлый раз вы не велели топить! Как вы, однако, странны!..
— Прощайте! — прошептал Жан Вальжан.
Он не сказал: «Прощайте, Козетта». Но у него не хватило силы сказать: «Прощайте, баронесса». Он вышел удрученный. На этот раз он понял.
На следующий день он не пришел. Козетта заметила это только вечером.
— Странно, — сказала она, — господин Жан сегодня не приходил. У нее слегка сжалось сердце, но она почти не обратила на это внимания, потому что ее тотчас же развлек поцелуй Мариуса.
Наступил следующий день, он опять не пришел.
Козетта не обратила на это внимания, спокойно провела вечер и спала ночью так же хорошо, как обычно, и вспомнила об этом только просыпаясь. Она была так счастлива!
Она послала Николетту к господину Жану узнать, не болен ли он и почему он не был накануне. Николетта принесла ответ от господина Жана. Он не был болен. Он был занят. Он скоро придет. Как только будет возможно. Кроме того, он собирался совершить небольшое путешествие. Баронесса, вероятно, помнила, что он имел привычку совершать небольшие путешествия. Пусть о нем не думают и не беспокоятся.
Николетта, придя к господину Жану, повторила ему слово в слово поручение своей барыни. Баронесса прислала узнать, почему господин Жан не приходил накануне. «Я не был уже два дня», — кротко возразил Жан Вальжан.
Но Николетта не обратила внимания на это замечание и ничего не сказала об этом Козетте.
IV. Притяжение и угасание
В последние весенние и первые летние месяцы 1833 года редкие прохожие квартала Марэ, мелочные торговцы и стоявшие у ворот зеваки видели опрятно одетого во все черное старика, который каждый день в один и тот же час с наступлением ночи выходил с улицы Омм Армэ, там, где она пересекается улицей Святого Бретонского Креста, проходил мимо улицы Белых Плащей, поворачивая на улицу Святой Екатерины и, дойдя до улицы Эшарп, шел налево, на улицу Святого Людовика.
Там он шел медленно, вытянув голову вперед, ничего не видя и ничего не слыша, устремив взор в одну и ту же точку, которая казалась ему усеянной звездами и которая была углом улицы Филь-дю-Кальвер. Чем ближе подходил он к этому углу улицы, тем живее становился его взгляд, какая-то радость, точно отражение внутренней зари, освещала его глаза, он имел восторженный и растроганный вид, его губы чуть заметно шевелились, как будто он говорил с кем-то невидимым, он как-то странно улыбался и старался идти как можно медленнее. Глядя на него, казалось, что, идя куда-то, он в то же время боялся того момента, когда подойдет совсем близко. Когда оставалось всего лишь несколько домов между ним и улицей, которая притягивала его к себе, его шаг так замедлялся, что казалось, будто он стоит. Покачивание головой и пристальный взгляд невольно приводили на память магнитную стрелку, стремящуюся к полюсу. Но, как ни старался он отдалить время своего прибытия, момент этот все-таки наступал; когда же он доходил до улицы Филь-дю-Кальвер, он останавливался, как-то робко вздрагивал, высовывал голову из-за угла крайнего дома и смотрел на эту улицу; в его болезненном взгляде было нечто похожее на сожаление о невозможности чего-то и как бы отблеск утраченного рая. Тем временем слезы постепенно собирались в уголках глаз и начинали медленно катиться по его щекам, иногда достигая рта. Тогда старик чувствовал их горький вкус. Постояв, точно каменный, несколько минут, он поворачивал обратно и шел той же самой дорогой, и, по мере того как он удалялся, взор его угасал.
Мало-помалу этот старик перестал доходить до угла улицы Филь-дю-Кальвер, он останавливался на полдороге на улице Святого Людовика, то немного дальше, то немного ближе. Однажды он остановился на углу улицы Святой Екатерины и только издали взглянул на улицу Филь-дю-Кальвер. Потом медленно, покачав головой, как будто бы противясь чему-то, пошел обратно.
Скоро он перестал доходить даже и до улицы Святого Людовика. Он доходил до улицы Павэ, качал головой и уходил, потом стал доходить только до улицы Трех Бабочек, потом до улицы Белых Плащей, он казался похожим на маятник незаведенных часов, качания которого постепенно укорачиваются и наконец совсем останавливаются.