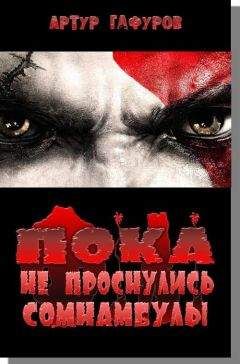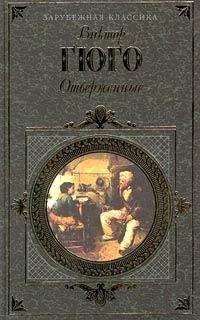Виктор Гюго - Отверженные
— Вы можете приходить каждый вечер, — сказал Мариус, — и Козетта будет вас ждать.
— Вы очень добры, милостивый государь, — сказал Жан Вальжан.
Мариус поклонился Жану Вальжану, затем счастливый проводил несчастного до двери, и эти два человека расстались.
II. Мрак, который служил в то же время и откровением
Мариус был расстроен.
Теперь ему стало понятно испытываемое им отвращение к человеку, близ которого он видел Козетту. В этом человеке было что-то загадочное, от чего его предостерегал инстинкт. И это загадочное таило в себе самый отвратительный вид позора: каторгу. Этот почтенный господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.
Внезапное открытие такой тайны в своем счастье имело в себе сходство с тем, как если бы вдруг оказался скорпион в гнезде горлиц.
Неужели счастью Мариуса и Козетты суждено отныне навсегда иметь такое соседство? Неужели это такое явление, которое не может быть изменено? Неужели принятие этого человека в свою семью составляет необходимое условие брака? Неужели против этого ничего нельзя предпринять?
Неужели Мариус, вступая в брак, женился также и на каторжнике?
Душа его сияла светом и радостью. Он узнал величайшее наслаждение жизни, и вдруг этому счастливому влюбленному пришлось пережить такое огорчение, которое заставило бы даже ангела выйти из благоговейного экстаза, даже полубога, наслаждающегося славой.
Как это часто бывает при таких неожиданных переменах, Мариус задавал себе вопросы, может ли он упрекнуть себя в чем-нибудь? Может быть, он был слишком недогадлив? Может быть, он был недостаточно предусмотрителен? Может быть, он поступил легкомысленно? Даже не совсем легкомысленно, а так, чуть-чуть. Может быть, он сам виноват в том, что не принял никаких мер и, не рассуждая ни о чем, отдался охватившему его чувству любви, и это увлечение закончилось его браком с Козеттой? Он для себя решил и уверовал в это, — так бывает очень часто, — что, заставляя нас задумываться о самих себе и анализировать поступки, происходящие с нами, жизнь тем самым мало-помалу нас исправляет. Он теперь уяснил себе мечтательную сторону своей натуры, представляющей нечто вроде внутреннего облака, свойственного многим натурам, которое во время сильных припадков страсти и горя увеличивается, изменяя температуру души, и завладевает всем человеком, оставляя только совесть, окутанную туманом. Мы не раз отмечали эту характерную черту личности Мариуса. Он вспомнил, что на протяжении шести или семи недель, проведенных им на улице Плюмэ он, опьяненный любовью, даже не заговаривал с Козеттой о драме в лачуге Горбо, где жертва так упорно хранила молчание, как во время самой борьбы, так и потом во время бегства. Как это могло случиться, что он ни разу не говорил об этом с Козеттой? А между тем воспоминания об этом событии были в то время так свежи! Как это случилось, что он не назвал Тенардье даже и в тот день, когда он встретил Эпонину? Теперь он едва мог объяснить себе свое тогдашнее молчание, а между тем причина все-таки существовала. Он вспоминал свое ослепление, свое опьянение Козеттой, свою всепоглощающую любовь, это охватившее его стремление к созданному им идеалу, потом к этому также примешивалось почти незаметное влияние рассудка, почти что инстинктивно требовавшего, под влиянием овладевшего им в то время состояния, скрыть и даже изгнать из своей памяти это ужасное событие, всякого воспоминания о котором он боялся, в котором он не хотел играть никакой роли, от которого он скрывался и в котором он не мог выступить ни рассказчиком, ни свидетелем без того, чтобы не стать обвинителем. Впрочем, эти несколько недель прошли очень быстро. Времени хватало только на любовь. Наконец, взвесив все это и обдумав со всех сторон, он стал размышлять, что произошло бы, если бы он рассказал Козетте о западне в доме Горбо, если бы он назвал ей Тенардье, если бы он даже открыл ей, что Жан Вальжан был каторжником? Изменило ли бы это ее, Козетту? Разве он в состоянии был бы отступить? Разве он стал бы меньше любить ее? Разве он не желал бы точно так же жениться на ней? Нет. Разве это изменило бы что-нибудь в том, что произошло? Нет. Значит, не о чем жалеть и не в чем упрекать себя. Все вышло хорошо. У этих опьяненных страстью людей, которых называют влюбленными, есть свой бог — слепота. Мариус шел по дороге, которую выбрал бы ясновидящий. Любовь наложила ему повязку на глаза, чтобы привести его — куда? В рай.
Но с этим раем было отныне связано соседство ада. К прежнему отвращению Мариуса к этому человеку, к этому Фошлевану, ставшему Жаном Вальжаном, примешивался ужас.
В этом ужасе, надо заметить, была какая-то жалость и даже удивление.
Этот вор, вор-рецидивист, добровольно возвращает отданную ему на хранение сумму и какую еще сумму? Шестьсот тысяч франков. Только он один знал тайну клада. Он мог все оставить себе, а между тем он все возвратил.
Кроме того, он рассказал все и о себе самом. Никто его к этому не принуждал. Если теперь и знали, кто он такой, то только благодаря ему самому. В этом видно было больше чем готовность принятия оскорбления, тут была и готовность встретить лицом к лицу опасность. Для осужденного маска — не маска, а защита. Он отказался от этой защиты. Чужое имя давало ему безопасность. Он отказался от чужого имени. Он, этот каторжник, мог навсегда укрыться в честной семье, но он не поддался этому искушению. И по какой причине? Чтобы не терпеть укоров совести. Он сам себе это так объяснил, и не верить этому было нельзя. В общем, каков бы ни был этот Жан Вальжан, в нем неоспоримо происходило пробуждение совести. В нем начиналось какое-то таинственное возрождение, и такое состояние, очевидно, давно уже овладело этим человеком. Такие приступы справедливости и добра не свойственны обыкновенным натурам. Пробуждение совести — это величие души.
Жан Вальжан был искренен. Эта искренность, видимая, осязательная, непобедимая, очевидная даже по причиняемому ею горю, служила наилучшим доказательством и принуждала его верить всему, что говорил этот человек. А это коренным образом изменяло к нему отношение Мариуса. Какое чувство питал он к Фошлевану? Недоверие. Что вызвал в нем Жан Вальжан? Доверие.
В таинственном балансе этого Жана Вальжана, который составлял погруженный в раздумье Мариус, он сначала разобрал актив и пассив, а потом старался подвести итоги. Но все представлялось ему как в облаках бури. Мариус, стараясь составить себе ясное представление об этом человеке и следуя, так сказать, за Жаном Вальжаном в глубину его помыслов, терял его и видел его как бы в роковом тумане. Честно возвращенный вклад, искренность признания, — все это было хорошо. Это было вроде молнии, осветившей на мгновение тучу, но потом туча опять становилась черной. Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но он все-таки кое-что вспомнил. Что это было за событие в логове Жондретта? Почему, когда явилась полиция, человек этот, вместо того чтобы жаловаться, бежал? На этот вопрос Мариус теперь нашел ответ. Потому что этот человек был преступник, бежавший с каторги.
Другой вопрос. Зачем этот человек явился на баррикаду? Теперь вдруг воспоминание об этом ясно всплыло в памяти Мариуса. Этот человек был на баррикаде. Он там не дрался. Зачем он приходил туда? Перед этим вопросом вставал призрак и давал требуемый ответ. Его привлек туда Жавер. Мариус теперь ясно вспомнил зловещее появление Жана Вальжана, когда он вел за баррикаду связанного Жавера, и он еще как будто слышал раздавшийся за углом улицы Мондетур звук пистолетного выстрела. Казалось вполне понятным, что шпион и каторжник ненавидели друг друга. Они мешали друг другу. Жан Вальжан приходил на баррикаду, чтобы отомстить. Он пришел туда поздно. Он, видимо, знал, что Жавер попал в плен. Корсиканская вендетта проникла в некоторые низшие слои общества и сделалась там законом, она так проста, что не удивляет сердца, наполовину обратившиеся к добру, и эти сердца так устроены, что преступник, находящийся на пути к исправлению, может быть очень робким, когда идет воровать, и смелым, когда он мстит. Жан Вальжан убил Жавера. Так, по крайней мере, это казалось.
Наконец, еще один, последний, вопрос, но на него нельзя было придумать ответа. Мариус чувствовал, что этот вопрос сжимает его, как тиски. Как это случилось, что жизнь Жана Вальжана так долго соприкасалась с жизнью Козетты? Что это за непонятная игра Провидения, которая поставила ребенка в такое близкое соприкосновение с этим человеком? Неужели же там, наверху, на небесах, тоже есть цепи, и эти цепи соединили ангела и демона? Значит, существует такая таинственная каторга, где преступление и невинность могут очутиться вместе? В этом списке осужденных, который называют человеческой судьбой, две судьбы могут быть рядом: одна наивная, другая ужасная, одна залитая божественным сиянием зари, другая навсегда омраченная сразившим ее блеском молнии. Кто в состоянии объяснить эту необычайную прихоть Провидения? Каким образом, каким чудом могли соединиться судьбы этого юного ангела и старого каторжника? Кто мог сблизить ягненка с волком и — непостижимая вещь! — привязать волка к ягненку? Это видно было по тому, что волк любил ягненка, свирепое существо полюбило существо слабое, исчадье ада в течение девяти лет служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее образование, ее стремление к жизни и свету, — все это совершалось благодаря этому уродливому самопожертвованию. Здесь вопросы распадались, так сказать, на бесчисленные загадки, бездны раскрывались в безднах, и Мариус не мог без содрогания приблизиться к Жану Вальжану. Кто такой был этот погибший человек?