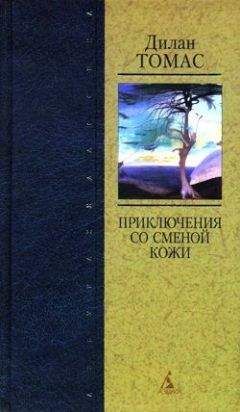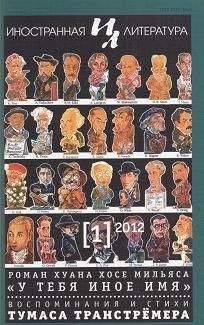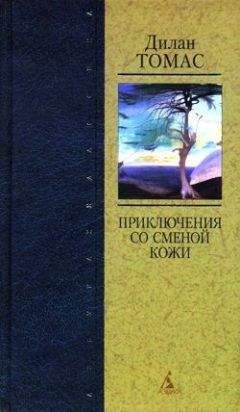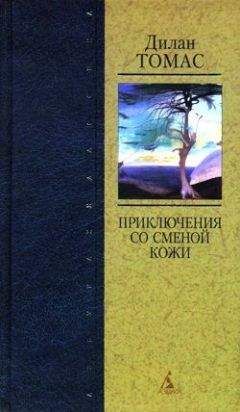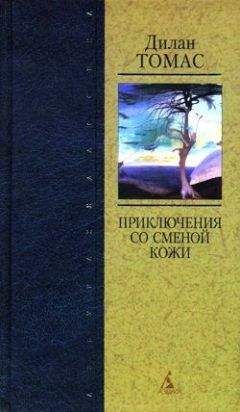Валлийский рассказ (сборник) - Мэйчен Артур Ллевелин
Самец сделал шаг вперед и вдруг, забыв об опасности, издал непривычный для такого животного звук, похожий на «о-о-о»; чудовище же в ответ на этот крик, выдавший обезьян, заревело. Стая набросилась на странного самца и растерзала его на части; останки его упали вниз. Стая бросилась вон из пещеры, вверх по склону, и наконец очутилась в безопасности на самом верху, предоставив чудовищу расправляться с останками самца.
Обезьяны расползлись по расщелинам и не без злорадства следили за чудовищем, тщетно пытавшимся добраться до них. Так они избавились разом от опасности и от странного самца. Они сосали пальцы и облизывались, весь вид их выражал довольство и облегчение.
Так погиб первый человек, и прошло бесчисленное множество лет, прежде чем появился второй.
Алед Воген
Белый голубь
Была суббота — в детстве этот день всегда кажется волшебным. Никаких школьных занятий, и в твоем распоряжении вся округа — можно шататься сколько влезет. Втайне я воображал себя капитаном футбольной команды высшей лиги, самолично забивающим все до единого голы, так что на поле лишь поражаются моему натиску и умению. А иногда я превращался в одного из последних королей Уэльса, укрывшегося после жестокой битвы с англичанами на освещенном лунным сиянием торфянике, покрытом лиловатым вереском; одинокий король огромными шагами мечется по вереску, он замышляет новую кампанию, которая должна стереть неприятеля в порошок. Тогда верные мои соратники поднимут меня — победителя!— на плечи и понесут вдоль нашей деревни; на ходу я собью с головы директора школы Эванса безукоризненный черный котелок и сброшу его в самую грязь, потому что на прошлой неделе он всыпал мне шесть ударов розгами за то, что я вырвал с корнем две лучшие яблони в школьном саду, чтобы смастерить себе ходули.
Но в этот день и час, о котором пойдет речь, я играл на гумне возле дома со своим лучшим другом Эмиром. Сказать по правде, Эмира со мной не было, а зря, поскольку между нами проходило состязание в меткости — предстояло выяснить, кто первый попадет в пустую банку из-под лосося, которую я надел на кол садовой ограды. Эмир — это моя левая рука, и у него шесть камней; я — это моя правая рука, и у меня тоже шесть камней — за исключением тех случаев, когда я начинал проигрывать. Тогда я взглядывал исподлобья на небо украдкой швырял еще один камень. Большей частью выигрывал я, потому что я привык все делать правой рукой.
— Какой ты меткий!— вынужден был признать Эмир.— Ты попал в банку целых четыре раза! А мне удалось всего разок.
— Я практикуюсь почти каждый вечер,— скромно ответил я.
— Я тоже,— признался Эмир.
Мне нечего было добавить. Я пожал плечами и застенчиво улыбнулся. Потом я попал в жестянку два раза подряд. Сердце мое забилось от волнения.
Был серый полдень. Темные тучи так низко плыли над долиной, что едва не задевали за нашу трубу; кусок шифера, укрепленный над ней, не позволял ветру загонять дым обратно в печь. Небо было широкое и плоское. Оно придавило горы. Зеленую траву на полях покрывала копоть, а деревья казались неведомыми чудовищами, пропоровшими небо обнаженными, матово поблескивавшими рогами. Два-три увядших листочка, жадно цеплявшихся за ветви, походили на настороженные уши. Все это напоминало картину, висевшую у нас в классе, на которой был изображен один из эпизодов Столетней войны; всякий раз, когда я на нее взглядывал, внутри у меня будто что-то обрывалось и весь я покрывался потом. На этом полотне были вперемешку, друг на друге намалеваны кони, люди, ружья, штыки — на фоне льющейся крови и полыхающего пламени.
Внезапно я почувствовал, что слева от меня никого нет. Эмир исчез. Банка из-под лосося превратилась в каску немца, выглядывавшего из-за бруствера окопа, а сам я был французским фельдмаршалом, направлявшим огонь артиллерии.
Трижды были отмечены прямые попадания, однако немец все еще был жив, и в тот момент, когда я почувствовал, что мне надоело быть французским фельдмаршалом, из-за черных туч вдруг беззвучно и стремительно вынырнул белый голубь и стал круто спускаться к земле. Сделав три плавных круга над гумном, он легко взмахнул крыльями и уселся высоко на перекладине амбарной крыши.
Я весь преобразился. Теперь я уже не мальчишка с двумя руками, ногами и головой. Я стал землей, стал всем сущим, я был повсюду и, словно онемев, ходил вокруг амбара, не отрывая взгляда от белого голубя. Он настороженно примостился на крыше — вылепленная из снежинок ослепительная вспышка света, насмехающаяся над этим мрачным миром. Его безукоризненно белая грудка ровно вздымалась и опускалась, бросая уверенный вызов грозному небу. Время остановилось, я очутился в центре вечности.
Грозный порыв ветра с завыванием пронесся над черно-серой долиной. Он с силой хлестнул голубя по боку. Грациозный белый силуэт вдруг расплылся, перья встали дыбом, будто в ужасе, крылья распахнулись в немом крике. Мое всеведение сжалось в комок: я вновь ощутил, как мрачен этот день.
Птица снова обрела свою ослепительную красоту, но мое внутреннее равновесие было нарушено. Время снова двигалось вперед и уже требовательно напирало на меня. Мною овладело непреодолимое желание коснуться голубя руками, заслонить его собой. Чтобы вновь обрести душевное равновесие, мне нужно было обладать птицей, защитить ее, всегда иметь при себе. Я бросился под навес, где стояла телега; жгучее желание придало мне силы, и я сумел подтащить длинную лестницу и прислонить ее к стене амбара. Когда я добрался до крыши, голубь все еще сидел там, казалось, до него можно было дотянуться рукой. Радостное ощущение вернулось ко мне, но оно не было уже таким спокойным и уверенным, как прежде. Я взобрался повыше, рискованно балансируя на верхней перекладине и упираясь коленями в жесткий край черепичной крыши. Но я не ощущал грозившей мне опасности: присутствие голубя притупило чувство осторожности. Ласково маня его — раньше я и не подозревал, что язык мой был способен издавать подобные звуки,— я протянул к нему руку, почти касаясь прохладной черепицы. Птица повернула голову и разглядывала мои крадущиеся пальцы своими круглыми плоскими глазами, по цвету напоминавшими новенькие однопенсовики. Затем, когда я уже почти коснулся ее, тихо вспорхнула, устремляясь вверх по крутой крыше, и влетела прямо в раскрытые двери амбара. Я ухватился за черепицу. Внезапно она ощетинилась зазубренными краями, торчавшими словно клыки из раскрытой звериной пасти. Вниз по лестнице я спускался, уже соблюдая всяческие предосторожности.
Голубь уселся под крышей амбара на стропило, и когда я закрывал тяжелые двери, отрезая птице путь к отступлению, я знал, что совершаемое мною граничит с преступлением.
Издревле заложенный инстинкт подсказывал мне, как добраться до птицы. Но она примостилась высоко, я знал, что мне туда не дотянуться, как и то, что лестница слишком высока и крыша амбара помешает поставить ее прямо. Затем порочное влечение целиком завладело мною, и я перестал ему противиться. Я выскользнул во двор, огляделся по сторонам и, убедившись, что свидетелей нет, набрал полный карман камней. Потом вернулся, затворил двери и прицелился. Сначала я промахнулся. Камень с грохотом ударился об оцинкованное железо, а голубь склонил белую головку, прислушиваясь, и словно спрашивал о чем-то. Но второй камень угодил в цель, и мой пленник начал бессильно биться о крепкую стену амбара, ставшего для него тюрьмой. Я ликовал. Но было нечто ужасающее в том, что птица не издала ни единого звука в тот миг, когда ее настиг камень. Я снова запустил в нее кругляшок, и в суматошном стремлении спастись она ударилась о стальную балку. Когда голубь упал в мои подставленные руки, его крылья нервно подрагивали.
И — о светлая радость обладания!— как приятно было ощущать в ладонях птичье тельце, покрытое мягкими, слегка пружинящими перышками! Сердце голубя билось как сумасшедшее, словно жизнь его готова была выскочить наружу, коснуться меня и раствориться во мне. И он преуспел в своем стремлении, ибо вскоре мы стали единым целым, и это был момент ослепительной вспышки счастья, когда, казалось, мы могли свободно парить над нагромождениями нашего мира или исследовать небесную ширь. Содеянное зло исчезло бесследно.