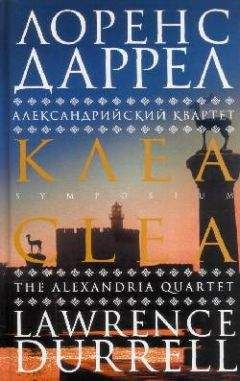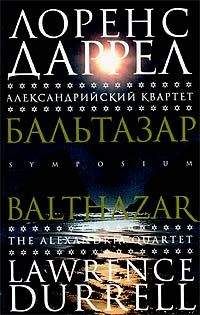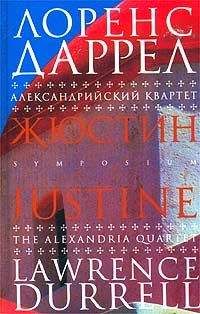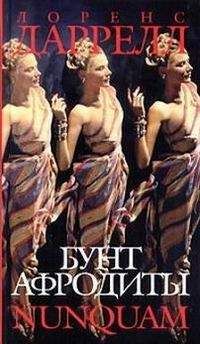Лоренс Даррел - Маунтолив
Передохнув немного, он пообедал в углу просторной террасы, в одной рубашке и в легких брюках, сунув ноги в сандалии. Потом встал, скинул сандалии долой и пошел босиком по залитой светом прожекторов лужайке вниз, к реке, и почувствовал остро, как покалывают босые ноги жесткие язычки ярко-зеленой травы. Трава была слишком жесткой, какая-то африканская, видимо, разновидность, и у корней стебельки ее, несмотря на постоянный полив, покрыты были пылью, как перхотью. Три павлина с великолепными аргусоглазыми хвостами бродили в тени. Мягкое, черное, припудренное звездной пылью небо. Ну, вот он и приехал — во всех смыслах слова. Припомнилась фраза из какой-то Персуорденовой книжки: «Писатель, самый одинокий зверь на свете…» Стакан с виски у него в руке был как кусок льда. Он лег в душной африканской тьме прямо на траву и уставился вверх, в небо, позволив сонной, бездумной здешней ночи сомкнуться над собой постепенно, дюйм за дюймом, как полой воде у подножия парка. Почему сквозит тоска за каждым жестом, за поверхностью вещей, зачем она, когда он так уверен во власти своей и силе и в себе самом? Черт знает что.
Прибыл, проглотив торопливо обед свой, Эррол и был очарован, застав шефа распростертым, словно морская звезда, посреди лужайки, в дреме. Подобного рода неформальность — добрый знак.
«Позвоните, скажите, чтобы вам принесли выпить, — царственно и благосклонно сказал Маунтолив, — и присоединяйтесь ко мне: здесь немного прохладней. Задувает с реки».
Эррол повиновался и нескладно опустился на траву. Они поговорили — в общем — о раскладе на ближайшее время.
«Я знаю, — сказал Маунтолив, — что все посольство ждет не дождется летнего переезда в Александрию. Я помню прекрасно, я ведь служил здесь младшим сотрудником при Комиссии. Ну что ж, мы и уедем из этой душегубки сразу, как только я представлю свои верительные грамоты. Король ведь объявится в Диване через три дня? Да, мне сказал Абдель Латиф на аэродроме. Прекрасно. В таком случае завтра я жду всех секретарей с женами к чаю, а вечером всех младших сотрудников — на коктейль. Прочее обождет, пока вы не сформируете спецпоезд и не упакуете вализы. Что в Александрии?»
Эррол туманно улыбнулся.
«Все в порядке, сэр. Пришлось немного поработать локтями, не мы одни переезжаем, но египтяне нас не обидели. Протокольный отдел отыскал для нас превосходную резиденцию с весьма достойным помещением для летнего консульства и еще несколько зданий для прочих наших нужд. Лучше не бывает. Потребуется два-три человека со стороны, не более; я уже составил штатное расписание, и все мы сможем провести там по три недели поочередно. Технический персонал можно отправить чуть пораньше. Вы, должно быть, намереваетесь организовывать все приемы уже на месте. Двор перебирается на летние квартиры через две недели. Никаких проблем».
Никаких проблем! Звучало обнадеживающе. Маунтолив вздохнул и погрузился в молчание. Из темноты по ту сторону обширной водной глади пришел неясный, смутный гул, похожий на слитную многоголосицу пчелиного роя, смех и пение пополам с отчаянной скороговоркой систров.
«Я же совсем забыл, — вскинулся Маунтолив, — Слезы Изиды! Сегодня же Ночь Слез, так ведь?»
Эррол кивнул с видом знатока.
«Да, сэр».
Река вот-вот оживет, появятся фелуки, переполненные людьми, и голосами, и перезвоном струн. Изида-Диана возрадуется нынче на небесах, хотя отсюда, сквозь белый конус электрического света, ночного неба почти не видать. Маунтолив поднял голову вверх, отыскивая знакомые созвездия.
«Ну что же, на сегодня все», — сказал он, и Эррол тут же встал с земли, прокашлялся и сказал осторожно:
«Персуорден не появился сегодня, у него грипп».
Маунтоливу сей жест лояльности показался добрым знаком.
«Я знаю, у вас с ним неприятности. Я позабочусь о том, чтобы он вел себя иначе».
Эррол посмотрел на него — удивление с восхищением пополам.
«Спасибо, сэр!»
Маунтолив проводил его не торопясь до террасы.
«Еще я хотел бы пригласить на обед Маскелина. Завтра вечером, если его это устроит».
Эррол медленно кивнул:
«Он был на аэродроме, сэр».
«Я его не заметил. Пожалуйста, передайте моему секретарю, чтобы он озаботился приглашением на завтра. Но сперва созвонитесь с ним и, если завтра он не сможет, дайте мне знать. На четверть девятого, черный галстук» [47]
«Будет сделано, сэр».
«Мне нужно срочно с ним переговорить: у нас намечается здесь некоторая реорганизация, и я очень надеюсь на его сотрудничество. Мне говорили, что он прекрасный офицер».
На лице Эррола появилось несколько неуверенное выражение.
«У него были весьма серьезные трения с Персуорденом. А на этой неделе он буквально брал миссию измором. Он, конечно, отнюдь не дурак, но… несколько излишне прямолинеен, что ли».
Эррол явно осторожничал, прощупывал почву.
«Ладно, — сказал Маунтолив, — я сперва поговорю с ним, а уж потом буду принимать решения. Я думаю, новая расстановка сил устроит всех, даже и мистера Персуордена в числе прочих».
Они пожелали друг другу доброй ночи.
День следующий полон был для Маунтолива знакомой рутины, но воспринимаемой, так сказать, под иным углом зрения — с позиции человека, при появлении которого все незамедлительно встают. Это грело, возбуждало, но и беспокоило; будучи в ранге советника, он умудрялся сохранять дружеские, удобные для обеих сторон отношения с младшим дипломатическим персоналом любого уровня. Даже туповатые, неповоротливые морские пехотинцы, охранявшие обычно посольства и консульства, никогда его не сторонились, а если и воспринимали как существо иной породы, то как существо неизменно дружественное и всяческого доверия достойное. Теперь же они застывали намертво, в стойках едва ли не оборонительных.
Вот они, горькие плоды власти, думал он, смиренно привыкая к новой роли.
Как бы то ни было, первый акт он отыграл гладко; и даже коктейль прошел настолько удачно, что расходились господа дипломаты почти с неохотой. Он немного задержался, переодеваясь к обеду, и, когда спустился вниз, в покойную — как холодное полотенце на горячечный лоб — гостиную, свежим, после ванны, и в свежем костюме, Маскелин уже его ждал.
«Ага, Маунтолив!» — сказал сей старый служака, встал не торопясь и вытянул перед собой руку жестом сухим, невыразительным и абсолютно спокойным.
Маунтолив ощутил вдруг легкий укол раздражения — этакое амикошонство после целого дня поклонов и расшаркиваний. («Господи, — подумал он тут же, — неужто я и в самом деле в душе провинциал?»)
«Мой дорогой бригадир…» — В итоге первая его фраза вышла с некоторой прохладцей, не слишком явной, но вполне различимой. Может быть, Маскелин и хотел-то всего лишь подчеркнуть, что он человек из команды, работающей на Минобороны, а не на Foreign Office? В таком случае он сделал это не лучшим образом. Тем не менее, отчасти даже против собственной воли, Маунтолив ощутил вдруг прилив симпатии к этому худому, явно одинокому человеку с усталыми глазами и невыразительным голосом. Он был некрасив, но и в некрасивости своей как-то неуловимо элегантен. Допотопный его смокинг был скверно вычищен и отутюжен, но и качество материала, и покрой — просто превосходны. Маскелин не спеша потягивал коктейль, осторожно опуская к стакану длинное, как морда борзой, лицо. Маунтолива он изучал с полнейшей невозмутимостью. Некоторое время они обменивались незначащими, подобающими случаю любезностями, и как Маунтолив ни пытался с собою бороться, Маскелин ему скорее нравился, несмотря на сухую, слегка бесцеремонную манеру. Ему вдруг показалось, что он встретил себе подобного, человека, который никак не мог решиться приписать жизни тот или иной конкретный смысл.
Присутствие прислуги исключало любой другой разговор, кроме как на самые общие темы, обедали они на лужайке, и Маскелин, казалось, ничего не имел против оттяжек, выжидая нужного момента. Только однажды прозвучало имя — Персуорден, и Маскелин сказал, особо не церемонясь:
«Да, мы с ним едва знакомы, если не считать, конечно, официальных контактов. Забавно, но отец его — фамилия уж очень редкая, вряд ли я ошибаюсь, — отец его был во время войны у меня в роте. Орден получил, „За боевые заслуги“, посмертно. Кстати, я его к ордену и представил: потом, конечно, была проблема отыскать прямого наследника. Сынишка-то был тогда совсем маленький, наверно. Конечно, я мог и ошибиться — да, в общем, оно и неважно».
Маунтолив был заинтригован.
«Честно говоря, — сказал он, — мне кажется, вы не ошибаетесь — он мне как-то раз о чем-то таком рассказывал. А вы с ним об этом говорили?»
«Господи, да нет конечно! С какой стати?»
Маскелина вопрос этот, по всей видимости, едва ли не шокировал.
«Сын, видите ли, не совсем… в моем духе человек, — сказал он тихо, но вовсе без предубеждения, просто констатировал факт. — Он… я… ну, я прочел одну из его книг».