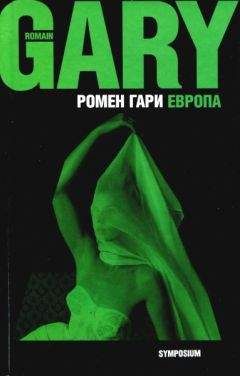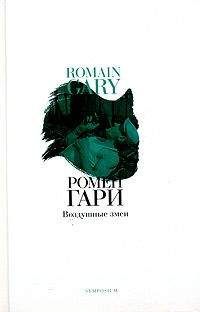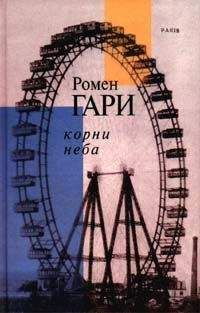Ромен Гари - Прощай, Гари Купер!
— Кстати, мы — кто вообще? Католики?
— Естественно. От крепкой ирландской ветви.
— Хоть какая-то уверенность. Если все остальное пойдет прахом, можно будет за это зацепиться.
— Что-то не слишком гладко, с этим парнем…
— Что особенно прискорбно, так это когда пролетаешь в первый раз, потом уже знаешь, что есть и другие мужчины, и от этого так грустно, хоть плачь.
— Опыт.
— Да. Я еще не совсем готова к этому.
— Извини, если я начну говорить как отец, но…
— Замолчи. Не превращайся просто в отца. К этому я тоже не готова. Ты говоришь себе: «Я его люблю», а потом замечаешь, что получила всего-навсего любовника… Аллан, не остается ли в конце концов один мир с его настоящими проблемами? И к этому я тоже не готова, я хочу жить. А между тем все остальное слишком уж походит на «Самсона Далилу с его кошечками». Так что… Спокойной ночи.
— Именно. Спокойной ночи. Да, вот еще что… — Он взял ее за руку и засмеялся. — Согласен, упадничество. Однако можно быть декадентом, не становясь при этом заурядным. У меня такое впечатление, что Америке нечего меня бояться. Я ничего не значу. Совершенно безопасно. Высший класс: быть декадентом, ничего не компрометируя, ни о чем не заявляя. Когда тебе ничего не надо говорить, ты можешь позволить себе все что угодно. Безвредно. Настоящее бесклассовое общество — это ты и я. Она убрала свою руку.
— Спокойной ночи. Хватит с меня соловьев и лунного света. Черт с ним, с полуночным состоянием души. Я хочу жить.
Она поднялась к себе в комнату, разделась и нырнула под одеяло, свернулась клубочком. «Нужно будет вернуться на работу в ОЗЖ, по крайней мере мне будет казаться, что я наконец занимаюсь собой. Я и правда начинаю думать, что мне нужен вовсе не структурализм и не Ларошфуко, а просто-напросто ветеринар». Глупая принцесса, запертая в толстых стенах своего маленького королевства «Я», которая уже и не знает, что ей запрещено: запираться там или оттуда выходить. Сегодня все Иерихонские трубы — это только джаз, Фрейд и Маркс под саксофон, с их кошечками соответственно. Нужно же когда-нибудь подумать и о себе, о своем месте во вселенной. И провались все пропадом, хватит уже быть потерянной собакой со всеми этими ошейниками, которые ей навешивают, не претендуя даже на место Эйнштейна, ко всему прочему.
Глава XII
Он проделал путь от Фрайгера до Альта, через Цорн и Грюнденталь, спустившись по склону Шурра, в три дня и две ночи. Когда вы понимаете, что хотите сжать малышку в своих объятьях и уже никогда не отпускать, это значит, что пришло время сматывать. Кто бы, конечно, говорил, но я все-таки скажу: любовь, она есть. Это не какая-нибудь страшилка, это не фильм ужасов, она правда существует. Вспотеешь тут, думая об этом. Эти шальные деньги слишком дорого ему обходились. Тогда он сказал малышке, что они нашли кого-то другого, кажется, этих табличек «КК» в Женеве пруд пруди. Да, Джесс, они говорят, что у них уже кто-то есть. Пока, да, до завтра. Да, как сможешь. И он смотал. Ведь это — минное поле, эти их кучи денег. Как Таос, или как его там. УФ! Парни в шале объявили ему, что снег на склонах Таля был такой тяжелый и так плохо держался, что там, наверху, нельзя было даже пукнуть, не вызвав тем самым лавину, — что ты, Ленни, тебе жить надоело или что? Да, или что. Но он все равно отправился туда. Ему совсем не хотелось умирать: там, в этой области смерти, еще не все было доделано, оставалось еще много работы, чего-то не хватало, но когда девчонка начинает так на вас действовать, когда она спускает черт знает куда все ваши принципы, необходимо предпринимать решительные шаги. Любовь — это не просто любовь, будь так, все можно было бы легко уладить. Но любовь — это жизнь, которая пытается вас прибрать. Она наводит красоту, старая карга. Но на высоте в три тысячи метров все начинает замерзать внутри, вы уже больше ничего не чувствуете, вам даже удается больше не думать, ни одна глупость не выдерживает: это первое, что замерзает. И еще ему хотелось вновь увидеть Таль, его тридцать километров совершенно пустой белизны, как в те времена, когда можно было построить себе что-нибудь и жить там, никому не давая адреса. Там, на Тале, была замечательная тишина, настоящая, которой нет нигде в другом месте, как, впрочем, нет и возможности услышать что-то в самом деле важное, это есть только там…
Он пообещал кюре, что проводит его до Грюнденского приюта, не дальше, к тому же у него для этого были свои причины. Этот друг был до такой степени задурен своим Богом и религией, что тем самым и вам поднимал настроение: рядом с ним вы чувствовали себя настоящей скотиной, и от этого вам становилось намного легче. Надо сказать, что доминиканец был еще тот лыжник, он не умел дышать и уже на полпути начал судорожно хватать ртом воздух, как задыхающаяся форель, нос у него стал пунцово-красным, а очки запотели от жара его собственного дыхания.
— Перестаньте так пыхтеть, Боже мой. А то нас сейчас лавиной накроет.
— И… хаа! И… хаа! И… хаа!
— А, понятно. Хорошо, я буду идти помедленнее.
— Это… чу … чудесно, эта… маленькая… прогулка! И… хаа! И… хаа! По бокам высились два склона Кляйне Гроссе, блестя на солнце так, что не было видно даже снега, один только лучистый свет.
— Что с вами, Ленни? У вас несчастный вид.
— У меня болит живот. Когда вы выходите на Цорн, перед вами десять, пятнадцать километров пологого спуска — море света, и ничего больше — а дальше маячит Цорн, похожий на белого орла, который сидит, распластав крылья, как бы оберегая своих птенцов, а небо — не просто синее, к какому мы, вы и я, привыкли, но, напротив, такое, какого мы с вами никогда не видели.
— И… хаа! И… хаа!
— Хорошо, привал. Сардины с обжигающим чаем, небо, куда ни кинешь взгляд. Кажется, в Тибете именно так: такая же синь, только поди узнай, так ли. Погоня за синевой может увести вас довольно далеко. Они сидели на снегу, обжигая себе внутренности кипятком, заедая сардинами с хлебом; вот что он обожал больше всего на свете: жирные сардины с хлебом и горячим чаем, вприглядку на всю эту синеву, у которой был победный вид, да, именно победный: он забрался сюда, и никто его, сукина сына, здесь не достанет! Вот тебе и отчуждение. Небо, вот кто настоящий чемпион, не стоило с ним и тягаться. Но сардины того стоили. А потом солнце село за Шлагге, там, где в прогулом году сгинул двадцатилетний итальянец Бассано; однажды, лет через тридцать или сорок, ледник вернет его тело, и его жена придет посмотреть на него, и он будет выглядеть как ее сын, у него навсегда сохранится лицо двадцатилетнего, тогда как ей уже будет пятьдесят или шестьдесят. Тени начинали подползать к ним со всех сторон, как голодные хищники. Слышно было, как падает температура: под настом раздавался хруст. Синева выливалась в сирень, и только орлиная макушка Цорна одна блистала белизной. Доминиканец достал свою трубку — какую-то огромную корягу, и раскурил ее, воздев очи к вершинам своих благоговейных мыслей. Вид у него был весьма забавный: круглое лицо, маленький носик, на котором не хватало места даже для очков. Он вдруг стал серьезным, важным таким, обеспокоенным. Бог. Вечность. Соборы. Эти люди ни о чем другом не могут думать.
— О чем вы сейчас думаете?
— Я думаю, что мой зад начинает отмерзать, Ленни, без всякого сомнения. Что вы смеетесь?
— Ничего. Теперь все отливало серо-фиолетовым, и снег становился противным, назойливым, холод клевал вас во все места, выискивая ваше сердце, а вокруг стояла невообразимая неподвижность, поглощавшая вас, она захватывала мозг, в котором еще болтались концы разрозненных мыслей, где-то, непонятно где, вдали от вас; вы, естественно, продолжали жить, но все это происходило как будто с кем-то другим. Уже не было и следа психологии, ни внутри вас, ни вокруг, и ему уже было до такой степени плевать на все, что он готов был хоть сейчас же развернуться и на следующий день быть в Женеве.
— Ленни, теперь уже не только мягкое место. Все богатство промерзает.
— А что вам до вашего богатства? Вы ведь священник, разве нет?
— Энергия, Ленни. Она там накапливается. Священник ты или нет, тебе без этого все равно не обойтись. — Он прикончил последнюю банку сардин. — Идемте, Ленни. А то я околею.
— Вы боитесь умереть?
— Я боюсь замерзнуть. Ленни пробрал смех.
— Знаете, что я только что выдал внизу? В Женеве? Отказался от шести тысяч долларов. За здорово живешь.
— Да, и почему же?
— Слишком опасно.
— Что, полиция?
— Нет. Девушка. Я чуть было не поддался. Я хочу сказать, что почти уже променял на нее сардины.
— Ужас.
— Я почувствовал, что если останусь с ней еще хоть ненадолго, эта жизнь начнет приобретать для меня значение. Я и правда начинал дорожить ею. По-настоящему.
— Ленни, они сейчас отвалятся.
— Ну, так вы их подберете. Делов-то. Я передумал. Вы сможете один добраться до приюта?