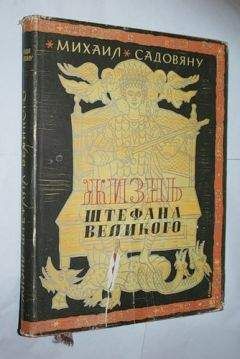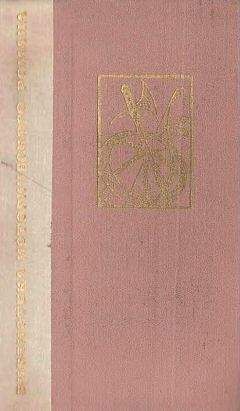Михаил Садовяну - М. Садовяну. Рассказы. Митря Кокор. Л. Ребряну. Восстание
Верней всего, злодей этот, Тодирицэ Катанэ, подстерег там и искалечил господарева человека. Советоваться-то они советовались с Анкуцей там, около печи, да только не под силу женщине замыслить такое. От Анкуцы узнал я потом, что будто бы укрылся этот негодяй с боярышней Варварой на венгерской земле. Тогда я снова подумал, что все это с ее ведома сталось.
И долго капитан Некулай и конюший Ионицэ все думали с грустью о тех бесчинствах, что случились в городе Яссах и на берегу Молдовы.
Суд обездоленных
Большой неуклюжий человек поднялся с кожуха, брошенного возле тележного дышла, и вразвалку подошел к костру.
Уже по одному тому, как он медленно передвигал ноги, словно сгребая ими траву, в нем сразу можно было узнать чабана. Об этом свидетельствовали и его сермяга, и шапка из цельной овечьей шкуры, и широкий блестящий пояс, и в особенности рубаха, задубевшая от стирки в молочной сыворотке. В руках у него был длинный посох, который он держал за самый конец. Маленькие глазки едва виднелись из-под нависшего лба и густых бровей. Курчавые длинные волосы были смазаны маслом, а подбородок выскоблен обломком косы.
— Все я выслушал, и все это были занятные истории, — заговорил он густым басом. — Теперь одного мне хочется: узнать историю вон того — высокого, сухопарого путника.
После таких слов, обращенных к конюшему, всем стало ясно, что человек этот явился из глухих краев.
До этой минуты мы его даже не замечали; а он-то все время сидел рядом с нами и молчал. Молча прихлебывал вино, и вот теперь у него развязался язык, и ему захотелось повеселиться. Левой рукой он швырнул кружку прямо через пламя костра. Посудина зазвенела в темноте и разбилась в груде черепков, окончив свою жизнь.
— Теперь уж эта кружка не отведает больше вина! — ухмыляясь, снова заговорил чабан. — И мы с ней встретимся не раньше, чем я сам рассыплюсь прахом. Ну, тем, кто меня не знает, я скажу: живу я далеко, на Рарэу{27}, и есть там у нас с товарищами овчарня и землянки, полные кадок с творогом и кислым молоком, да другие землянки, с попонами и кожухами. А зовут меня Констандин Моцок. Хотите знать больше, так скажу вам, что иду я в село на берегу Серета разыскивать, осталась ли еще у меня на свете кровная родня — сестра, которую я не видел с молодых лет. Коли она умерла, вернусь обратно, к овцам и товарищам, к своей печали, — туда, на самую макушку горы, где ветер никогда не знает покоя, словно дума человеческая.
А смеялся я потому, что вспомнил одного своего приятеля. Так вот, он наказывал мне, коль попаду на постоялый двор Анкуцы, чтобы выпил я там кружку вина, а за ней другую — и так до тех пор, пока в глазах не помутится, и тогда я уж никому не смогу рассказать, что когда-то с ним случилось в этих местах. Мне-то он говорил, как он настрадался, да ведь я столько выпил, да еще из этакой посудины, что уже теперь и не вспомню толком тот случай.
— Какой случай? — спросил, по своему обыкновению, конюший Ионицэ.
— Да уж такой случай, почтенный, такое происшествие было с человеком, который для меня все равно что брат. Эй, музыканты, подыграйте-ка мне на струнах удалую песню разбойника Василе, прозванного Великим. А потом, коли люди того захотят, расскажу им, как было, а не захотят — помолчу.
И неожиданно он запел, как-то в нос, тонким голосом — совсем не под стать его огромному телу.
— Эй, слушайте!
Тот, кто молод и удал,
Выйдет с тем, что бог послал,
На тропинку между скал.
Не с арканом, не с ружьем,
Выйдет просто с кулаком…
Я слушал, как тоненько выводит он слова, и меня разбирал смех. Мне было весело, я не против того, когда человек под хмельком. Чабан замолк и усмехнулся, скорее злобно, чем добродушно.
— А теперь пусть эти вороны замолчат, — сказал он громким басом, — и спрячут свои скрипки под крылья. Хочу поведать вам, ежели желаете, историю, о которой только что поминал. И я не я буду, если она не придется вам по душе.
Он вгляделся во тьму постоялого двора, поправил под мышкой посох, на который опирался по пастушьей привычке, потом повернулся к нам, насупился и обвел всех невидящим взором — казалось, весь он ушел в далекое прошлое.
Из нас один только конюший Ионицэ смотрел на него нетерпеливо и презрительно. Помилуйте, мол, вдруг ни с того ни с сего его заставил замолчать самый обыкновенный простолюдин, а ведь его чести самому хотелось рассказать о великих событиях.
Но чабану не было стыдно, да и где уж ему взять такие тонкости обращения!
— Что это я хотел сказать? — спросил он нас, улыбаясь как бы издалека, из своего одиночества. — По правде говоря, чем рассказывать, лучше бы я на дудке сыграл — только не умею. Значит, приходится говорить, уж как выйдет. Жил этот мой приятель в селе Фьербинць на Серете, а владел селом в те времена боярин, известный богатей, по имени Рэдукан Кривой. Боярин был человек пожилой и вдовец. Нет-нет да и приглянется ему какая-нибудь крестьянская женка, и мы, бывало, сами над этим лишь посмеивались да пошучивали. А вот как стряслась такая штука с самим приятелем этим, тут уж стало ему не до смеха. Дошло до него через каких-то кумушек, что его Илинку тоже позвал боярин к себе домой.
— Да может ли этакое статься? — вскипел мой приятель.
— А вот и может! И вернулась она домой с новой шалью, красной, как огонь.
Тогда этот мой приятель ощетинился, словно бешеная собака. Оставил он свои сани с мешками на дороге возле корчмы, швырнул на рога волам кнут и схватил топор. Глаза ему будто кровавый туман застлал. Бросился он домой, вышиб плечом дверь, схватил жену за горло и закричал на нее:
— Где была? Говори сейчас же, где была, а то топором искрошу!
— Нигде я не была, человече! Что с тобой стряслось? Спятил ты, что ли?
— Сказывай, куда ходила, не то зарублю! Где красная шаль?
— Какая еще шаль? Видать, ты выпил да заснул в санях, вот тебе и привиделось!
Он на нее кричит, а она отпирается, рвется от него, руками отмахивается и клянется без умолку. Схватил ее муж за косы и ну колошматить головой об угол печи. Да так ничего от нее и не добился.
— Режь меня, убивай, ни в чем я не виновата!
А приятель мой уж и бить ее устал. Опустились руки. Поглядел он, как жена плачет, и стало ему тяжко.
— Ой, Илинка, — говорит он, — будь она проклята, наша несчастная жизнь! Ведь мы только четыре года как поженились. Когда женились, деревья цвели возле нашего дома, а нынче цветы их осыпались и сердце мое льдом покрылось. А уж как я тебя любил и верил тебе, да вижу, что горько обманулся.
Тогда жена поклялась светом очей своих и могилой матери, что ума не приложит, о чем речь идет. Вытерла свой рот, разбитый в кровь, поцеловала мужа, успокоила его и послала за санями с волами. А только он ушел, накинула она на голову красную шаль, вышла садом в проулок — и прямехонько на боярский двор.
Подъехал парень на санях к амбару, снес туда мешки, а потом тоже пошел на боярский двор, чтобы приказчик записал все в свою книгу. Да вместо приказчика на крыльцо вышел сам боярин. Поманил этак моего приятеля пальцем, посмеивается и цедит сквозь зубы:
— А ну подойди-ка сюда, хозяин.
— Сейчас иду! Чего изволите, барин?
— Ах ты нехристь, — говорит помещик. — Что у тебя с женой? За что ты ее бьешь и истязаешь?
Приятель мой даже сразу в толк не взял его слов:
— Ничего не было, барин. Не пойму, откуда ваша милость про это знает и мешается промеж мужа и жены?
Не успел он договорить, как Кривой Рэдукан — раз ему кулаком в зубы!
Приятель мой только зажмурился, сначала ему невдомек было, а когда открыл глаза и увидел в окне Илинку в красной шали, все понял. Заревел он зверем, и таково ему стало, что хоть в колодец головой. Только не тут-то было! Схватил боярин арапник, что висел за дверью в сенях, и огрел беднягу по шее да еще концом резанул по глазам, будто огнем ожег. Мечется приятель мой то вправо, то влево, захлебывается кровью, наконец кое-как вывернулся и скатился с лестницы, бежать хочет, да внизу его боярские холопы схватили.
Отбился он от них кулаками и с воем кинулся на хозяина. А Рэдукан Кривой снова как обожжет его хлыстом, да еще подмаргивает с насмешкой здоровым глазом:
— Не пускайте его, ребята, — говорит, — видите, бешеный! Чуть жену свою не убил.
Слуги набросились на него и схватили. Колотили они его, пока сами из сил не выбились, а потом отпустили.
После того он три дня провалялся больной; всю скамью от злости изгрыз, а потом поднялся и перелез ночью через забор во двор к боярину, чтобы жену разыскать. Долго подстерегал он ее возле людской — и все же дождался. Зарычал он от ярости и кинулся на нее, готовый разодрать ей глотку ногтями. Услыхал боярин из дома крик и вышел с кинжалом.