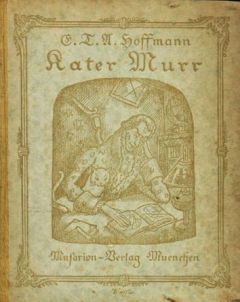Эрнст Гофман - Житейские воззрения Кота Мурра
― Дорогой мой, ― вступил в беседу второй, как мне показалось в моей корзине, мужчина весьма положительный, ― дорогой мой, а что вы понимаете под «бессмысленной животиной»? Бессмысленных животных не бывает! Я сам нередко, погрузившись в тихое самосозерцание, испытываю глубочайшее уважение к ослам и прочим полезным тварям. Не понимаю, почему какое-нибудь смышленое домашнее животное, одаренное счастливыми природными задатками, нельзя выучить читать и писать, более того ― почему бы такому зверьку не возвыситься до положения ученого или поэта? Разве не было тому примеров? Я уже не говорю о сказках «Тысячи и одной ночи», лучшем историческом источнике, со всей его прагматической достоверностью, сошлюсь, милейший, лишь на Кота в сапогах, кота, преисполненного благородства, проницательного ума и глубокой учености.
Придя в восторг от похвалы коту, который, как мне подсказывал внутренний голос, безусловно был моим достойным предком, я не удержался и два-три раза громко чихнул. Оратор сразу замолчал, и все испуганно воззрились на мою корзину.
― Contentement, mon cher! [51] ― заметил наконец только что ораторствовавший положительный господин и продолжал: ― Если не ошибаюсь, дражайший эстетик, вы только что упоминали о некоем пуделе Понто, выдавшем вам тайну научных и поэтических занятий нашего кота. Это напоминает мне превосходнейшую Сервантесову Берганцу, о дальнейшей судьбе коей повествует одна новая и весьма увлекательная книга. Упомянутая собака тоже являет разительный пример наличия природных способностей у животных и восприимчивости последних к наукам.
― Позвольте, бесценный друг, ― перебил его другой, ― что за странные примеры вы нам приводите? Про собаку Берганцу рассказывает Сервантес, бывший, как известно, сочинителем романов, а история о Коте в сапогах ― просто-напросто детская сказка, которую господин Тик, правда, изложил нам с такой живостью, что кое-кто по глупости, пожалуй, и поверит в нее. Итак, вы цитируете двух поэтов, как будто они серьезные естествоиспытатели или психологи, тогда как они меньше всего таковы; доказано, что они отпетые фантасты и всегда сочиняют и преподносят нам самые несусветные небылицы. Но позволительно ли вам, такому умному человеку, ссылаться на сочинителей для подкрепления того, что противно здравому смыслу и рассудку? Лотарио ― профессор эстетики, ему простительно иногда хватать через край, но вы...
― Постойте, ― перебил положительный, ― постойте, милейший, не горячитесь. Поразмыслите хорошенько, и вы поймете, что, когда речь идет о чудесном, невероятном, надобно обращаться именно к поэтам, ибо трезвые историки в таких вещах ни черта не смыслят. И даже когда это чудесное препарируют, облекая его в научную форму, то для доказательства любого положения подбирают примеры из прославленных поэтов, ибо только их устами глаголет истина. Приведу вам в пример одного знаменитого врача, и вы, сами ученый врач, останетесь довольны таким доводом, ― да, говорю, я приведу вам в пример знаменитого врача: желая в своем описании животного магнетизма осветить наши связи с мировым духом, желая неопровержимо доказать существование необъяснимого дара предчувствий, он ссылается на Шиллера с его Валленштейном и приводит слова последнего: «Есть в жизни человеческой минуты...» и дальше: «Вещания такие бывают...» ― уж не помню, что еще он говорил. Остальное можете сами прочитать в трагедии.
― Эге, ― возразил доктор, ― вы непоследовательны, ― вторгаетесь в область магнетизма и беретесь утверждать, будто в довершение всех чудес, доступных магнетизеру, ему еще по силам обучать одаренных котов.
― Что ж, ― сказал положительный, ― никто не знает, как магнетизм действует на животных. Коты, носящие в себе электрические флюиды, как вы сейчас убедитесь...
Я вдруг вспомнил, как горько сетовала Мина, рассказывая мне о проделываемых над нею опытах, и так сильно перепугался, что у меня вырвалось громкое «мяу!».
― Клянусь Орком, ― в страхе закричал профессор, ― клянусь Орком со всеми его ужасами, этот дьявольский кот слышит и понимает все, что мы говорим... Сейчас... клянусь честью, сейчас я задушу его собственными руками.
― Неумно, ― отозвался положительный, ― право, неумно, профессор. Ни за что я не потерплю, чтобы вы причинили хотя бы малейшее зло коту, которого я успел от души полюбить, даже не имев счастья узнать его поближе. В конце концов, я могу подумать, что вы просто завидуете его уменью сочинять стихи. Профессором эстетики этот маленький серый господин никогда не сделается, об этом можете не беспокоиться. Разве в старинных академических статутах не записано черным по белому, что вследствие участившихся злоупотреблений воспрещается допускать ослов к профессуре, и разве не распространяется это правило на зверей всех пород и видов, включая и котов?
― Все может быть, ― недовольно ответил профессор, ― может быть, коту и не бывать никогда ни магистром, ни профессором эстетики, но как писатель он рано или поздно выступит непременно; будучи любопытной новинкой, он, конечно, привлечет издателей и читателей и утянет у нас из-под носа жирные гонорары...
― Не вижу никаких причин, ― возразил положительный, ― почему бы такому прекрасному коту, милому любимцу нашего маэстро, не выступить на поприще, где толчется столько людей, не имеющих на то ни сил, ни призвания. Единственная мера, которую следовало бы принять, это обстричь его острые когти, и это мы можем сделать немедленно, дабы иметь уверенность, что, став сочинителем, он никогда не пустит нам кровь.
Все встали с мест. Эстетик схватил ножницы. Легко себе представить мое состояние! Но я решился с мужеством льва защищаться от бесчестья, которое готовились мне нанести; первого, кто приблизится ко мне, я отделаю так, что следы останутся на вечные времена; я приготовился к прыжку, ожидая мига, когда откроют мою корзину.
Но тут в комнату вошел маэстро Абрагам, и весь мой страх, уже доходивший до отчаяния, сразу рассеялся. Мой хозяин открыл корзину, и я одним прыжком, как бешеный, пронесся мимо него и шмыгнул под печку.
― Что стряслось с моим котом? ― удивился маэстро, подозрительно оглядывая гостей, которые застыли в смущении и, чувствуя свою вину, не знали, что отвечать.
Как ни опасно было мое положение, когда я находился в неволе, я не мог не испытывать внутреннего удовлетворения от слов профессора о моей вероятной карьере, и меня чрезвычайно радовала ясно проступавшая в его словах зависть. Я уже чувствовал у себя на макушке докторскую шапочку, уже видел себя на кафедре! Разве любознательная молодежь не стала бы усердней всего стекаться именно на мои лекции? Не думаю, чтобы нашелся хоть один благовоспитанный юноша, кто бы превратно понял просьбу профессора не приводить на лекции собак! Не у всех пуделей такие дружеские намерения, как у моего Понто, а в особенности не приходится доверять вислоухим охотничьим псам: они всегда и везде затевают бессмысленные свары с просвещеннейшими представителями нашей породы и вынуждают их к самым непристойным изъявлениям гнева, как-то: фырканью, царапанью, кусанию и т. д. и т. д.
Как же было бы прискорбно...
(Мак. л.) ...только одна краснощекая фрейлина, которую Крейслер уже видел у Бенцон.
― Сделайте одолжение, Нанетта, ― обратилась к ней принцесса, ― спуститесь вниз и присмотрите, чтобы все кусты гвоздики были снесены в мой павильон, слуги до того нерадивы, что сами ничего толком не сделают.
Фрейлина вскочила, весьма церемонно присела и быстро, словно птичка, выпушенная из клетки, выпорхнула из комнаты.
― Ничего не могу сыграть, ― повернулась принцесса к Крейслеру, ― если не нахожусь наедине с учителем, он для меня что духовник, ― ему можно не робея исповедаться во всех своих грехах. Вам, дорогой Крейслер, здешний чопорный этикет, конечно, покажется странным, обременительным: я вечно окружена фрейлинами, они меня оберегают, будто я ― испанская королева. По крайней мере здесь, в нашем прелестном Зигхартсвейлере, можно было бы наслаждаться большей свободой. Если бы князь был сейчас во дворце, я бы не осмелилась отослать Нанетту, а она ведь и сама скучает во время наших музыкальных уроков, и меня тяготит своим присутствием. Что ж, начнем еще раз, теперь дело должно пойти лучше.
Крейслер, проявлявший на уроках необычайное терпение, снова начал арию, которую выбрала принцесса для разучивания, но как ни старалась Гедвига, как ни помогал ей капельмейстер, она все время сбивалась с такта, фальшивила, делала ошибку за ошибкой и наконец, вся побагровев, вскочила, подбежала к окну и стала смотреть в парк. Крейслеру показалось, что принцесса плачет; первый урок его, вся эта сцена сделались ему несколько тягостны. Тут у него мелькнула мысль: надо изгнать этот враждебный музыке дух, расстроивший принцессу, изгнать самим гением музыки. И у него из-под пальцев полились одна за другой приятнейшие мелодии, он играл знакомые любимые песни, варьируя их контрапунктическими разработками и мелодическими украшениями; под конец он даже сам удивился, как прелестно он играет на фортепьяно, и совершенно забыл о принцессе с ее арией и взбалмошной выходкой.