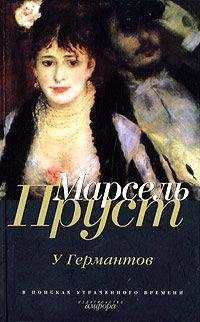Марсель Пруст - Комбре
Но когда я ее позвал и она вернулась к постели, на которой мучилось Милосердие Джотто, слезы у нее сразу высохли; она не узнавала ни того приятного чувства жалости и умиления, которое было ей хорошо знакомо по чтению газет, ни другого подобного удовольствия в той досаде и раздражении, которые испытываешь, поднимаясь среди ночи ради какой-то судомойки, и вид тех самых страданий, над описанием которых она только что плакала, исторгал у нее только недовольное брюзжание и даже отвратительные колкости; когда ей показалось, что мы ушли и не услышим ее слов, она сказала: "А нечего было заниматься, чем она занималась, вот и не было бы ничего! Повеселиться захотелось? Пускай теперь и отдувается. Видать, парень был Богом обиженный, если на такую польстился. Ох, правду говорили в мамашиной деревне: "Кобелю и псица — красная девица". Когда ее внука слегка прихватывал насморк, она ночью, даже больная, не ложилась, а шла посмотреть, не нужно ли ему чего, возвращалась пешком четыре лье до рассвета, чтобы успеть на работу, но зато эта самая любовь к семье и желание обеспечить будущее величие своего дома превращались, когда дело касалось ее политики по отношению к другим слугам, в неукоснительное правило — никому не позволять втираться к тете, и вопросом чести для нее было никого к тете не подпускать; она предпочитала, даже сама прихварывая, лишний раз подняться к ней с бутылкой "Виши", лишь бы не открывать доступ в хозяйскую спальню судомойке. И как перепончатокрылое, описанное Фабром[125], оса-землеройка, которая, чтобы обеспечить детей свежим мясом после своей смерти, призывает на помощь своей жестокости анатомию и ловит жуков-долгоносиков и пауков, а потом с изумительным знанием дела и сноровкой пронзает им нервные центры, управляющие движением лапок, чтобы парализованное насекомое, возле которого она откладывает яйца, служило личинкам, когда они вылупятся, легкой добычей, безобидной, неспособной на бегство и сопротивление, но без малейшей гнильцы, так и Франсуаза, в угоду своей неуклонной воле сделать дом невыносимым для всех слуг, измышляла настолько искусные и безжалостные хитрости, что немало лет прошло, прежде чем мы узнали, почему в то лето почти каждый день ели спаржу: от ее запаха у несчастной судомойки, которой поручено было ее чистить, начинались такие жестокие приступы астмы, что в конце концов ей ничего не осталось, как от нас уйти.
Увы! В конце концов мы оказались вынуждены изменить мнение о Леграндене. С той встречи на Старом мосту, после которой отцу пришлось признаться в своей ошибке, прошло некоторое время, и вот в одно прекрасное воскресенье, выходя после обедни из церкви, куда вместе с шумом и солнцем уже просочился дух суетности, так что даже г-жа Гупиль, г-жа Перспье и другие (которые совсем недавно, когда я слегка опоздал, даже не взглянули в мою сторону, целиком уйдя в молитву, будто вообще меня не заметили, хотя их ноги в то же время ловко подвинули скамеечки, мешавшие мне пройти на место) затевали с нами разговоры громким голосом о предметах вполне мирских, словно мы уже вышли на площадь, — так вот, выходя, мы увидели на залитой солнцем паперти, возвышающейся над пестрой сутолокой рынка, Леграндена: муж той дамы, с которой мы встретили его недавно, как раз представлял его жене другого крупного землевладельца наших мест. Весь облик Леграндена излучал пылкое воодушевление; он склонился в глубоком поклоне, а после даже немного откинулся назад, несколько отклонив свой корпус от исходной стойки; такому поклону его, вероятно, обучил муж его сестры, г-жи де Камбремер. При этом быстром выпрямлении зад Леграндена — я и не предполагал, что он у него такой мясистый, — колыхнулся порывистой мускулистой волной; и, не знаю почему, эта зыбь чистой материи, эта сугубо плотская волна, лишенная всякого духовного начала и обуреваемая низкой услужливостью, сразу выстроила в моем уме возможность совершенно другого Леграндена, чем тот, которого мы знали. Та дама попросила его что-то передать ее кучеру, и, пока он шел к карете, на лице у него еще сохранялся отпечаток робкой радости и преданности. Он улыбался, витая в каких-то мечтах, потом поспешно вернулся к даме и, поскольку шел он быстрее обычного, его плечи смешно качались то вправо, то влево, и он, отрешившись от всех других забот, отдался этому движению, похожий на заводную игрушку, заведенную счастьем. Между тем мы прошли по паперти и почти уже с ним поравнялись; хорошее воспитание не позволяло ему отвернуться, но его внезапный взгляд, затуманенный глубокой мечтательностью, уставился в такую дальнюю точку горизонта, что он никак не мог нас заметить, так что и здороваться с нами был не обязан. Его лицо по-прежнему хранило печать простодушия, мягкий однобортный пиджачок ненароком словно заблудился среди ненавистной роскоши. И повязанный бантом галстук в горошек, с которым играл ветерок на площади, трепетал на Леграндене, как знамя его гордого уединения и благородной независимости. Когда мы входили в дом, мама спохватилась, что мы забыли про торт, и попросила нас с отцом вернуться и сказать, чтобы его скорее доставили. Возле церкви мы разминулись с Легранденом, который шел в обратную сторону, ведя к карете все ту же даму. Он прошел мимо нас, не прерывая разговора с собеседницей, и краешком своего голубого глаза слегка подмигнул нам как-то одними веками, так что знак этот, не отвлекая мускулы лица, остался для собеседницы совершенно незаметным; но, стремясь накалом чувства компенсировать тесноватое пространство, отведенное им для выражения этого чувства, Легранден сверкнул предназначенным для нас краешком лазури с таким задором, с таким благодушием, что это уже было больше чем шутка и граничило с лукавством; он утончил деликатность дружбы до заговорщицкого подмигивания, до намеков, до вещей подразумеваемых, до тайного сообщничества; и наконец вознес заверения в дружбе аж до признаний в нежности, до заверений в любви, тайно и незримо для владельцы замка ради нас одних зажигая томностью влюбленный зрачок на ледяном лице.
Как раз накануне он попросил родителей отпустить меня сегодня вечером к нему в гости. "Составьте компанию вашему старому другу, — сказал он мне. — Позвольте мне вдохнуть аромат вешних цветов из дальних стран вашего отрочества, которые цвели когда-то и для меня: это как букет, присланный нам другом, странствующим в краях, куда нам нет возврата. Приносите примулы[126], кашку, лютики, приносите птичий хлеб — из него собран любовный букет бальзаковской флоры[127], — и непременный пасхальный цветок, маргаритку[128], и белые как снег хлопья калины, что начинают благоухать в аллеях вашей двоюродной бабки, когда в саду еще белеют клочья апрельского позднего снега. Приносите шелковистые ризы лилий, достойные Соломона[129], и разноцветную эмаль анютиных глазок, но главное — приносите с собой ветер, еще свежий от последних заморозков, пускай под ним приотворится для двух мотыльков, с утра поджидающих на пороге, первая роза иерусалимская[130]".
Домашние колебались, надо ли все-таки посылать меня к Леграндену. Но двоюродная бабушка отказалась верить, что он мог проявить нелюбезность. "Вы же сами признаете, что у нас в гостях он всегда держится запросто, совсем не по-светски". Она объявила, что на всякий случай, даже если предположить худшее и он в самом деле повел себя нелюбезно, лучше сделать вид, что мы ничего не заметили. По правде сказать, мой отец и сам, хоть поведение Леграндена его и задело, все еще не был уверен, правильно ли он все понял. Так всегда бывает, когда поведение или поступок обнажат нечто скрытое в самой глубине человеческого характера: они не вяжутся с речами, которые мы слышали от этого человека раньше, мы не можем подтвердить их признанием виновного — потому что он ни в чем не признается; нам остается только полагаться на свидетельства наших чувств, и, вспоминая этот отдельный и противоречивый случай, мы колеблемся, можно ли им доверять; и сам поступок — а ведь только он и важен — часто оставляет у нас некоторые сомнения.
Мы ужинали с Легранденом на террасе; светила луна. "Не правда ли, — сказал он мне, — в тишине есть нечто прекрасное; сердце мое изранено, а если верить автору романов, которые вы потом прочтете, израненным сердцам подобают лишь сумрак и тишина[131]. Вот видите ли, дитя мое, наступает в жизни такой час, от вас еще очень далекий, когда усталым глазам под силу лишь один свет — тот, который источает и смешивает с темнотой сегодняшняя прекрасная ночь; это час, когда слух уже не в силах внимать иной музыке, кроме той, что играет лунный свет на флейте тишины". Я слушал речи г-на Леграндена, которые мне всегда так нравились; но, смущенный воспоминанием о женщине, которую недавно заметил в первый раз, и думая теперь, когда я узнал, что Легранден связан с несколькими местными аристократами, что, возможно, он знаком и с этой дамой, я сказал: "А вы знакомы с владелицей... с владелицами замка Германт[132]?" — и я был счастлив уже тем, что, произнося это имя, наделяю его неким могуществом потому только, что извлек его из своей мечты и подарил ему независимую, облеченную в звуки жизнь. Но при имени "Германт" я увидел, как в голубых глазах нашего друга появилась маленькая коричневая отметина, словно их пронзило невидимое острие, между тем как остальная часть зрачка отозвалась на ее появление новыми потоками лазури. Тени у него под глазами потемнели, расплылись. Но губы, очерченные горькой складкой, спохватились быстрее и сложились в улыбку, между тем как взгляд оставался страдальческим — взгляд прекрасного мученика, пронзенного стрелами. "Нет, я с ними незнаком", — сказал он, и этот простой и, в сущности, столь неудивительный ответ прозвучал у него не легко и естественно, как можно было ожидать, — нет, он произнес его с ударением на каждом слове, склонившись ко мне и качая головой, с настойчивостью, которую вносят в неправдоподобное утверждение, чтобы в него поверили, как будто то, что он незнаком с Германтами, — нелепое недоразумение, и одновременно с напыщенностью, как человек, который не может замалчивать обстоятельство, для него мучительное, и предпочитает объявить о нем вслух, чтобы другие подумали, что это признание не причиняет ему никаких затруднений, что оно легкое, приятное, непосредственное, и он, возможно, не столько смиряется с этим обстоятельством — то есть с отсутствием отношений с Германтами, — сколько сам того хотел, следуя какой-нибудь семейной традиции, нравственному принципу или мистическому желанию, воспрещающему ему вот именно общаться с Германтами. "Нет, — заговорил он опять, в пояснение собственной интонации, — нет, я их не знаю, я и не хотел никогда, я всегда стремился сохранять полную независимость; в глубине души я старый якобинец, вы же знаете. Многие предлагали мне помочь, говорили, что напрасно я не езжу в замок Германт, что я выгляжу невежей, старым медведем. Но такая репутация меня совершенно не пугает, ведь все это правда! В глубине души я люблю на всем свете только несколько церквей, две-три книги, немногие картины да лунный свет в тот час, когда ветерок вашей молодости приносит мне аромат цветочных клумб, которых моим старым глазам уже не различить". Я не совсем понимал, почему не ходить в гости к незнакомым людям — значит дорожить своей независимостью и по какой причине это делает вас невежей и медведем. Но я понимал, что Легранден не вполне правдив, когда говорит, что любит только церкви, лунный свет да молодость; он очень даже любит людей из замков и до того боится им не понравиться, что не смеет показать им, что дружит с буржуа, сыновьями нотариусов или биржевых маклеров, предпочитая, чтобы истина, если ей суждено открыться, вышла наружу в его отсутствие, отдельно от него и "заочно"; он был снобом. Разумеется, ничего этого не звучало никогда в его разговоре, который так любили мои родители и я сам. И если я спрашивал: "Вы знаете Германтов?" — тот, красноречивый, Легранден отвечал: "Не знаю и никогда не стремился". К сожалению, он отвечал вторым, потому что другой Легранден, которого он тщательно прятал у себя внутри, которого не показывал, потому что этот другой Легранден знал про нашего, про его снобизм, компрометирующие истории, — другой Легранден уже успевал ответить уязвленным взглядом, оскалом рта, преувеличенной серьезностью ответа, тысячью стрел, которыми наш Легранден оказывался мгновенно истыкан и ослаблен, как святой Себастьян снобизма: "Увы! Как вы меня терзаете, нет, я не знаю Германтов, не бередите мою невыносимую боль". И поскольку этот ужасный Легранден, этот Легранден-шантажист, не владея прекрасным языком нашего Леграндена, владел иным языком, куда более доходчивым, — ведь этот язык состоял из непроизвольных реакций, — то, бывало, не успеет красноречивый Легранден заткнуть ему рот, как тот, другой, уже высказался, и нашему другу было уже поздно сокрушаться о дурном впечатлении, которое, должно быть, произвели разоблачения его альтер эго, он мог лишь попытаться как-то их сгладить.