Пэрл Бак - Земля
Все это жаркое лето Ван-Лун любил эту девушку. Он не знал о ней ничего, — ни откуда она, ни что она такое.
Когда они бывали вместе, он не говорил и десятка слов и едва слушал непрерывное журчание ее речи, пересыпанное смехом, как у ребенка. Он только следил за ее лицом, за ее руками, за меняющимися позами ее тела, за выражением ее больших неясных глаз — и ждал. Он не мог насытиться ею и возвращался на рассвете домой, растерянный и неудовлетворенный.
День длился бесконечно долго. Он не хотел больше спать на кровати, под тем предлогом, что в комнате жарко, и расстилал цыновку под бамбуками и спал там тревожным сном, то и дело просыпаясь и разглядывая заостренные тени бамбуковых листьев, и сердце его щемило болезненно-сладкое чувство, непонятное ему самому. И если кто-нибудь заговаривал с ним, жена или дети, или Чин приходил к нему, говоря: «Вода скоро спадет. Какие семена нужно готовить?» — то он только кричал:
— Оставьте меня в покое!
И все время сердце его было переполнено, потому что он не мог насытиться любовью к этой девушке.
Так шли дни за днями. Он только и думал, как бы провести день до наступления вечера, и не хотел смотреть в невеселые лица О-Лан и детей, которые бросали игры, как только он подходил к ним, ни даже на старика-отца, который всматривался в него и спрашивал:
— Что это за болезнь у тебя? Отчего у тебя стал дурной нрав и кожа желтая, как глина?
И в конце каждого дня наступала ночь, и девушка Лотос делала с ним, что хотела. Она стала смеяться над его косой, хотя каждый день он тратил много времени, расчесывая и заплетая ее, и сказала:
— Теперь южане не носят этих обезьяньих хвостов!
И он пошел, не говоря ни слова, и остригся, хотя до сих пор ни насмешками, ни бранью нельзя было заставить его сделать это.
Когда О-Лан увидела, что он сделал, она сказала испуганно:
— Ты обрезал свою жизнь!
Но он закричал на нее:
— Что же мне, так и ходить всю жизнь по-стариковски? Все молодые горожане стригутся коротко.
И все же в сердце своем он боялся того, что сделал, и все же он обрезал бы и свою жизнь, если бы приказала или захотела этого девушка Лотос, потому что в ней было все, что он считал красивым в женщине и что возбуждало в нем желание.
Свое крепкое загорелое тело, которое мыл он очень редко в обычное время, считая, что рабочий пот омывает его достаточно чисто, — свое тело стал он разглядывать, словно оно было чужое, и стал мыться каждый день так, что жена сказала в смущении:
— Ты умрешь, если будешь столько мыться!
Он купил душистого мыла в лавке, кусок красного пахучего мыла, которое привозили из чужих стран, и тер им свое тело, и ни за что на свете не соглашался съесть хоть немного чесноку, хотя раньше очень его любил: он не хотел, чтобы от него воняло, когда он бывал у девушки Лотос.
Он купил новой материи на платье, и хотя О-Лан всегда кроила его халаты, делая их длинными и широкими, теперь он с презрением смотрел на ее кройку и шитье и отнес материю городскому портному, и сшил себе платье, какое носят горожане: легкий халат из серого шелка, скроенный как раз по фигуре, почти без запаса, а сверх него черную атласную безрукавку. И купил себе башмаки, первые башмаки в его жизни, сшитые ему не женой; и это были черные бархатные туфли, точно такие, какие носил когда-то старый господин, хлопая на ходу задниками.
Но эту нарядную одежду ему стыдно было надеть вдруг перед О-Лан и детьми. Все это было завернуто в листы коричневой вощеной бумаги, и он хранил сверток в чайном доме у писца, с которым познакомился, и за плату писец позволил ему заходить потихоньку в одну из комнат и переодеваться перед тем, как отправиться наверх. А кроме того, он купил серебряное позолоченное кольцо и носил его на пальце, и когда волосы отросли над его бритым лбом, он стал помадить их душистой заграничной помадой из маленькой баночки, за которую заплатил серебряную монету.
О-Лан смотрела на него в изумлении и не знала, что и думать обо всем этом, и только один раз, посмотрев на него пристальным и долгим взглядом в полдень, когда они ели рис, она сказала мрачно:
— В тебе есть что-то такое, что напоминает господ из большого дома.
Ван-Лун громко засмеялся и ответил:
— Что же, мне всегда походить на батрака, когда у нас достаточно денег и даже есть лишние?
Но втайне это ему очень польстило, и в тот день он был гораздо ласковее с ней, чем обычно в последнее время.
Теперь деньги, его добрые серебряные монеты рекою уплывали из его рук. Он должен был платить не только за те часы, которые проводил с девушкой, но он не мог отказать ей, когда она капризничала и чего-нибудь хотела. Она вздыхала и жаловалась, словно у нее болело сердце:
— Ах, я бедная, бедная!
И когда он шептал, выучившись наконец говорить в ее присутствии: «Что ты, мое сердечко?», она отвечала:
— Я тебе сегодня не рада, потому что Черный Нефрит, которая живет против меня, получила в подарок от возлюбленного золотую шпильку для волос, а у меня только эта старая серебряная, которую я ношу без конца.
И тогда он не мог устоять и шептал ей, отодвигая мягкую черную прядь ее волос, чтобы еще раз полюбоваться ее маленькими ушками с длинной мочкой:
— И я тоже куплю золотую шпильку в волосы моего сокровища.
Это она научила его нежным словам, как учат новым словам — ребенка. Она научила его говорить их ей, и он говорил их для собственного удовольствия, и не мог наговориться, хотя и произносил их запинаясь, так как всю свою жизнь ему приходилось говорить только о посевах, жатвах, о солнце и о дожде.
Так серебро было вынуто из ямки в стене и из мешка. И О-Лан, которая в прежнее время, не стесняясь, говорила ему: «А зачем ты берешь деньги из стены?» — теперь молчала и только смотрела на него в великом горе. Она хорошо знала, что он живет какой-то отдельной от нее жизнью, и даже отдельной от земли, но что это за жизнь, она не знала. Но она боялась его с того дня, когда он увидел ясно, что она некрасива лицом, и когда он увидел, что у нее большие ноги, и она боялась спрашивать его, потому что он всегда был готов рассердиться на нее.
Однажды днем Ван-Лун возвращался домой через поля и подошел к ней, когда она стирала его одежду на пруду. Некоторое время он стоял молча, а потом сказал ей грубо. Он был груб, потому что стыдился, и даже себе не хотел сознаться, что ему стыдно.
— Где эти жемчужины, которые у тебя были?
И она ответила робко, стоя на берегу пруда и подняв глаза от белья, которое она колотила на гладком и плоском камне:
— Жемчужины? Они у меня.
И он пробормотал, смотря не на нее, а на ее мокрые и сморщенные от воды руки:
— Бесполезно держать жемчуг зря.
Тогда она сказала медленно:
— Я думала, что когда-нибудь можно будет вставить их в серьги. — И боясь, что он будет над ней смеяться, она сказала снова: — Я берегла бы их для младшей дочери, когда она выйдет замуж.
И он ответил ей громко, ожесточась сердцем:
— Зачем ей носить жемчуг, когда она черна, как земля? Жемчуга идут только женщинам с белой кожей!
И помолчав минуту, он крикнул вдруг:
— Отдай их мне, они мне нужны!
Тогда она медленно сунула руку за пазуху, вытащила маленький узелок, отдала ему и смотрела, как он развязывает его. И жемчужины легли на его ладонь, сияя мягким блеском в солнечном свете, и он засмеялся. О-Лан снова принялась колотить белье, и когда слезы медленно падали из ее глаз, она не поднимала руки и не вытирала их, и только еще упорнее колотила деревянной палкой белье, разостланное на камне.
Глава XX
Так могло бы продолжаться до тех пор, пока не было бы истрачено все серебро, если бы не вернулся неожиданно дядя Ван-Луна без всякого объяснения, где он был и что делал. Он встал в дверях, словно упал с облаков. Рваная одежда была, как всегда, незастегнута, а только запахнута на нем и кое-как завязана поясом, и лицо у него было такое же, как всегда, только покрылось морщинами и загрубело от солнца и ветра. Он широко ухмыльнулся им всем. Было раннее утро, и они сидели за столом и завтракали. Ван-Лун раскрыл рот от удивления, так как успел уже забыть, что дядя у него жив, и чувствовал себя так, точно мертвец пришел к нему в гости. Старик, его отец, моргал глазами, вглядывался и не мог узнать, кто это пришел, пока тот не заговорил:
— Ну, старший брат, и его сын, и сыновья сына, и моя невестка!
Тогда Ван-Лун встал, чувствуя в душе смятение, но сохраняя учтивость в выражении лица и голоса:
— А, мой дядя, а ты уже ел?
— Нет, — отвечал невозмутимо дядя, — но я поем с вами.
Не дожидаясь приглашения, он уселся, придвинул к себе чашку и палочки и наложил себе рису, и сушеной рыбы, и соленой моркови, и сухих бобов, которые стояли на столе. Он ел так, словно был очень голоден, и все молчали, пока он не выхлебал, громко чмокая, три чашки жидкой рисовой каши, с треском разгрызая рыбьи кости и сухие бобы. И когда он наелся, он сказал бесцеремонно, как будто бы это было его право:
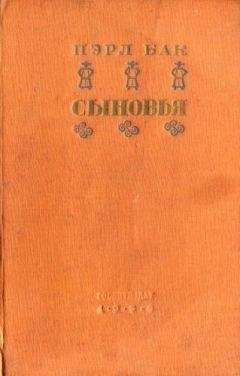
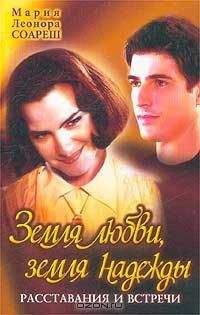
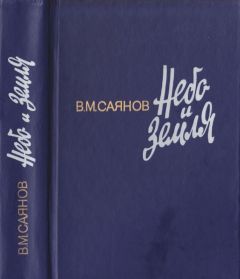
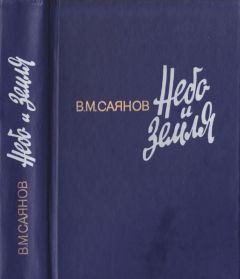
![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](/uploads/posts/books/60504/60504.jpg)