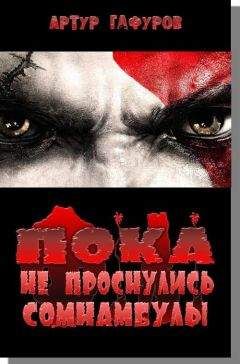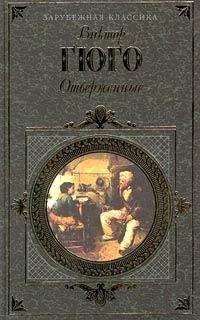Виктор Гюго - Отверженные
Гостиная, как мы уже говорили, была в полнейшем беспорядке. Казалось, что стоит только внимательно прислушаться, и услышишь еще смутный шум свадебного пиршества. На паркете валялись всевозможные цветы, выпавшие из гирлянд и головных уборов. Огарки догоревших свечей облепили восковыми сталактитами хрустальные подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. В углу сдвинутые в кружок три или четыре кресла, казалось, еще продолжали веселую беседу. Все имело веселый, праздничный вид. В обстановке окончившегося праздника чувствуется какая-то таинственная прелесть. Тут все говорило о том, что здесь царило счастье. Все эти беспорядочно расставленные кресла, увядающие цветы, погасшие огни навевали думы о счастье. Солнце заступило место люстры и заливало ярким светом зал.
Прошло несколько минут. Жан Вальжан неподвижно стоял на том же месте, как и в ту минуту, когда уходил Баск. Он был очень бледен. Глаза у него были мутные и от бессонницы до того впали, что казались провалившимися. Черная измятая пара свидетельствовала своим видом, что ее владелец на ночь не раздевался. Локти побелели и покрылись пушком от долгого соприкосновения сукна с полотном. Жан Вальжан, опустив глаза, смотрел на нарисованный солнцем у его ног на паркете переплет оконной рамы.
За дверью послышался шорох, он поднял глаза.
Мариус вошел с высоко поднятой головой и с улыбкой на устах; какой-то необычайный свет освещал его сияющее лицо, глаза сверкали торжеством. Он также не спал.
— Это вы, отец! — воскликнул он при виде Жана Вальжана. — То-то у этого дурака был такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Теперь всего только половина первого. Козетта еще спит.
Слово «отец», произнесенное Мариусом по адресу Фошлевана, означало высшее блаженство. До сих пор, как известно, в отношениях между ними всегда заметны были какая-то резкость, холодность и даже принуждение, а теперь лед сломался или растаял. Мариус был в таком приподнятом настроении, что вся натянутость исчезла, лед растаял, и Фошлеван стал и для него таким же отцом, как и для Козетты.
Он продолжал говорить, слова потоком лились из его уст, что всегда проявляется в тех случаях, когда человек переживает минуты наивысшего счастья.
— Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как мы вчера жалели, что вы ушли. Нам вас положительно недоставало! Здравствуйте, отец! Как ваша рука? Вам лучше, надеюсь? — И, удовольствовавшись этим благоприятным ответом, сделанным им самому себе в виде вопроса, он продолжал: — Мы оба долго говорили вчера о вас. Козетта так вас любит! Надеюсь, вы не забыли, что здесь для вас приготовлена комната. Мы не хотим больше и слышать об улице Омм Армэ. Понимаете, мы и слышать не хотим о ней. Как это могли вы жить на этой улице, такой нездоровой, отвратительной, мерзкой, упирающейся одним концов в заставу? Там такхолодно, и потом, туда нельзя даже иной раз и проникнуть. Вы должны непременно перебраться сюда и даже не позже сегодняшнего дня. Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она желает распоряжаться всеми нами, предупреждаю вас об этом. Вы видели приготовленную для вас комнату? Она почти рядом с нашей и выходит окнами в сад. Там исправили дверные замки, постель приготовлена и ждет только вашего прибытия. Козетта велела поставить возле вашей постели большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, которому она сказала: «Протяни ему свои объятия». Весной в густой акации, которая растет напротив ваших окон, поселяется соловей. Он прилетит через два месяца. Его гнездышко будет у вас с левой стороны, а наше с правой. По ночам будет петь он, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит окнами как раз на солнечную сторону. Козетта сама расставит ваши книги, ваше путешествие капитана Кука{560} и такое же точно описание путешествия Ванкувера{561}, разложит все ваши бумаги. Потом у вас, кажется, есть еще небольшой чемоданчик, которым вы очень дорожите. Я приготовил и для него почетное место. Вы завоевали моего дедушку. Вы очень подходите к нему. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Вы совсем завоюете сердце дедушки, если только вы умеете играть в вист. Вы будете ходить гулять с Козеттой в то время, когда я буду занят в суде. Вы будете гулять с ней под руку, помните, как там, в Люксембургском саду? Мы твердо решили быть счастливыми. И вы будете счастливы нашим счастьем. Слышите, что я вам говорю, отец? Ах да! Кстати, вы, конечно, завтракаете с нами сегодня!
— Милостивый государь, — произнес Жан Вальжан, — я прежде всего должен сказать вам следующее: я — бывший каторжник.
Для разума, точно так же как и для слуха, существует свой предел, когда он отказывается как бы понимать то, что ему говорят. Слова: «я — бывший каторжник», произнесенные Фошлеваном и достигшие слуха Мариуса, перешли за границу возможного. Мариус точно не слышал их. Он чувствовал, что ему что-то сказали, но что именно, он не мог понять, и только лицо его выразило изумление.
Потом он обратил внимание, что человек, говоривший с ним, имел ужасный вид. Ослепленный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его поразительной бледности.
Жан Вальжан развязал черную повязку, поддерживавшую его правую руку, ослабил бинт, которым был завязан его палец, обнажил палец и показал его Мариусу.
— У меня не болит рука, — сказал он.
Мариус взглянул на палец.
— Она у меня и не болела, — повторил Жан Вальжан.
В самом деле, на его пальце не было никаких следов раны. Жан Вальжан продолжал:
— Это было удобной отговоркой, чтобы официально не участвовать в вашей свадьбе. Я сделал со своей стороны все, что мог, в этом отношении. Я придумал эту рану для того, чтобы не иметь необходимости совершить подлог, чтобы свадебный контракт нельзя было объявить недействительным, чтобы устранить себя от обязанности подписывать его.
Мариус пробормотал:
— Что это значит?
— Это значит, — отвечал Жан Вальжан, — что я был на каторге.
— Вы сводите меня с ума! — воскликнул в ужасе Мариус.
— Господин Понмерси, — сказал Жан Вальжан, — я пробыл девятнадцать лет на каторге. Я был осужден за кражу. Потом я был осужден к пожизненной каторге и тоже за кражу, как рецидивист. А теперь я считаюсь бежавшим с каторги.
Мариус тщетно старался не верить тому, что ему говорилось, отвергнуть факты, найти возможность не верить тому, в чем не могло быть никакого сомнения, но очевидность вынуждала его отказаться от этой попытки. Он начал понимать, и, как это часто бывает в таких случаях, ему представилось все в несравненно худшем виде, чем это было на самом деле. В его уме точно молния промелькнула мысль, заставившая его содрогнуться; это сознание было так ужасно, что он не мог не содрогнуться. Он видел в этом для себя нечто ужасное в будущем.
— Говорите все, все говорите! — крикнул он. — Вы отец Козетты?
И он с выражением ужаса на лице сделал два шага назад.
Жан Вальжан с таким величественным видом поднял голову, что, казалось, будто он вырос до потолка.
— В этом случае вы должны поверить мне, милостивый государь, и хотя наша клятва и не признается правосудием…
Здесь он замолчал, потом с какой-то властной и мрачной энергией, медленно отчеканивая каждое слово, сказал:
— …вы мне поверите. Я не отец Козетты, клянусь богом! Барон Понмерси, я крестьянин из Фавероля. Я добывал себе пропитание подрезкой деревьев. Я не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я совершенно чужой Козетте. Успокойтесь.
Мариус пробормотал:
— Кто же мне это может доказать?
— Я. Потому что я говорю вам это.
Мариус смотрел на этого человека. Он был печален и спокоен. Так спокойно нельзя лгать. Все, что говорится с таким ледяным спокойствием, — истина. В этом могильном холоде чувствовалась правда.
— Я вам верю, — сказал Мариус.
Жан Вальжан наклонил голову как бы в знак того, что для него достаточно этих слов, и затем продолжал:
— Что такое я для Козетты? Случайный встречный. Десять лет тому назад я даже не подозревал о ее существовании. Я ее люблю, нельзя не любить дитя, которое видел маленьким, в то время когда я сам был уже стариком. Старику все дети кажутся как бы его родными внучатами. Мне думается, что вы можете согласиться с тем, что у меня есть нечто похожее на сердце. Она была круглой сиротой, без отца, без матери. Я был ей необходим. Вот почему я полюбил ее. Эти дети так беспомощны, что всякий встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем и защитником. Я исполнил эту обязанность по отношению к Козетте. Я не думаю, чтобы можно было такие пустяки назвать добрым делом, но если это по-вашему доброе дело, то я ровно ничего не имею против того, чтобы оно так считалось. Отметьте, пожалуйста, это обстоятельство как уменьшающее вину. Теперь Козетта покидает ту жизнь, которую я вел вместе с нею. Наши дороги расходятся. С нынешнего дня я для нее ничто. Она — баронесса Понмерси. Ее судьба изменилась, и Козетта только выиграла от этой перемены. Все идет хорошо. Что же касается шестисот тысяч франков, то хотя вы о них и не сказали еще ни одного слова, но я предвижу этот вопрос с вашей стороны и спешу ответить на него: деньги эти были у меня только на хранении. Вы можете еще спросить, каким образом попали ко мне эти деньги? А не все ли вам равно? Я отдаю теперь обратно этот отданный мне на хранение капитал. Теперь вам, я думаю, больше не о чем меня спрашивать. Я, впрочем, дополнил еще объяснение тем, что сказал вам мое имя. Мне хотелось, чтобы вы знали, кто я такой.