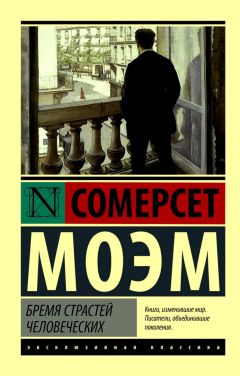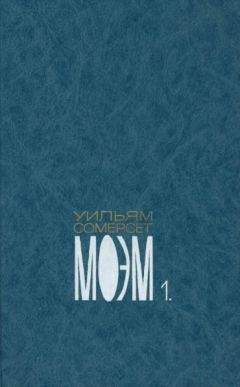Сомерсет Моэм - Бремя страстей человеческих
– Ах, герр Сун, как вы можете так говорить? Вас столько раз видели вместе.
– Нет, вы ошибаетесь. Это неправда.
Он глядел на нее, не переставая улыбаться, показывая ровные белые зубки. Он был безмятежно спокоен. И продолжал все отрицать, отрицать с вежливым бесстыдством. В конце концов фрау профессорша вышла из себя и сказала, что девушка призналась, что любит его. Это на него нисколько не подействовало. Он по-прежнему улыбался.
– Чепуха? Чепуха! Все это неправда.
Фрау профессорша так ничего и не добилась. Тем временем испортилась погода; выпал снег, начались заморозки, а потом наступила оттепель и потянулась вереница безрадостных дней – прогулки перестали доставлять удовольствие. Однажды вечером после немецкого урока с герром профессором Филип задержался на минуту в гостиной, болтая с фрау Эрлин; в комнату торопливо вошла Анна.
– Мама, где Цецилия? – спросила она.
– Наверно, в своей комнате.
– Там темно.
Фрау профессорша вскрикнула и с тревогой поглядела на дочь. Ей пришла в голову та же мысль, что и Анне.
– Позвони Эмилю, – произнесла она охрипшим от волнения голосом.
Эмиль был тот увалень, который прислуживал за столом и выполнял почти всю работу по дому. Он явился.
– Эмиль, ступай в комнату герра Суна, войди туда без стука. Если там кто-нибудь есть, скажи, что ты пришел затопить печку.
Флегматичное лицо Эмиля не выразило удивления.
Не спеша, он спустился по лестнице. Фрау профессорша и Анна оставили двери открытыми и стали ждать. Вскоре они услышали, что Эмиль возвращается наверх, и позвали его.
– Там кто-нибудь есть? – спросила фрау профессорша.
– Да, герр Сун у себя.
– А он один?
Рот слуги растянулся в плутоватой улыбке.
– Нет, у него фрейлейн Цецилия.
– Какой срам! – вскричала фрау профессорша.
Эмиль широко осклабился.
– Фрейлейн Цецилия каждый вечер там. Она не выходит от него часами.
Фрау профессорша принялась ломать руки.
– Какой ужас! Почему же ты мне ничего не сказал?
– А мне-то какое дело? – ответил он, спокойно пожимая плечами.
– Наверно, они хорошо тебе заплатили. Пошел вон. Ступай.
Он неуклюже затопал к двери.
– Мама, они должны уехать, – сказала Анна.
– А кто будет платить аренду? Скоро надо вносить налоги. Легко говорить: они должны уехать. Если они уедут, я не знаю, чем расплачиваться по счетам. – Она повернулась к Филипу, заливаясь слезами. – Ах, герр Кэри, не говорите никому ни слова. Если фрейлейн Ферстер – это была голландка, старая дева, – если фрейлейн Ферстер об этом узнает, она немедленно от нас уедет. А если все разъедутся, придется закрыть дом. Мне не на что будет его содержать.
– Разумеется, я ничего не скажу.
– Если она останется, я не буду с ней разговаривать, – заявила Анна.
Фрейлейн Цецилия вовремя пришла ужинать, но щеки ее были румянее обычного, а лицо выражало упрямство; герр Сун, однако, долго не показывался, и Филип уже решил, что он струсил. Наконец он пришел и, широко улыбаясь, извинился за опоздание. Как всегда, он заставил фрау профессоршу выпить бокал своего мозельского; он предложил вина и фрейлейн Ферстер. Было жарко: печь топилась целый день, а окна открывали редко. Эмиль двигался по комнате, как медведь, но ухитрялся прислуживать быстро и аккуратно. Три старые дамы сидели молча, всем своим видом выражая осуждение; фрау профессорша еще не успела прийти в себя, супруг ее был молчалив и озабочен. Беседа не клеилась. Знакомые лица показались сегодня Филипу какими-то зловещими, все словно преобразились при свете двух висячих ламп; на душе у него была тревога. Встретившись взглядом с Цецилией, он прочел в ее глазах ненависть и вызов. Духота становилась невыносимой. Казалось, что плотская страсть этой пары волнует всех присутствующих, что самый воздух дышит похотью Востока, благовонными курениями, тайными пороками. Филип ощущал, как кровь пульсирует у него в висках. Он не мог понять охватившего его чувства: в нем было что-то томящее, но в то же время отталкивающее и страшное.
Так тянулось несколько дней. Атмосфера была отравлена противоестественной страстью, нервы у всех были напряжены до предела. Один только герр Сун оставался невозмутимым; он так же улыбался и был таким же вежливым, как всегда; трудно было сказать, что означало его поведение: торжество более высокой цивилизации или презрение Востока к побежденному Западу. Цецилия вела себя дерзко. В конце концов даже фрау профессорша не смогла этого дольше вынести. Профессор Эрлин с грубой прямотой объяснил ей возможные последствия этой связи, протекавшей у всех на глазах; фрау профессорша пришла в ужас: она увидела, что неминуемый скандал погубит ее доброе имя и репутацию пансиона. Ослепленная погоней за наживой, она почему-то никогда не задумывалась над такой возможностью; теперь она совсем потеряла голову от страха, и ее с трудом удержали от того, чтобы она тут же не выбросила девушку на улицу. Только благодаря здравому смыслу Анны удалось предотвратить открытый скандал; было написано осторожное письмо берлинскому дядюшке: ему предлагали взять Цецилию к себе.
Но, решившись расстаться с двумя жильцами, фрау профессорша не смогла устоять перед искушением дать волю своему бешенству, которое она так долго сдерживала. Теперь-то она могла выложить Цецилии все, что у нее накипело.
– Я написала твоему дяде, Цецилия, чтобы он тебя забрал, – сказала она.
– Я больше не могу держать тебя у себя в доме.
Ее маленькие круглые глаза засверкали, когда она заметила, как побледнела девушка.
– Стыда у тебя нет. Бесстыдница, – сказала она и стала осыпать девушку ругательствами.
– Что вы написали дяде Генриху? – спросила та, сразу же потеряв всю свою независимость.
– Ну, знаешь, об этом он скажет тебе сам. Завтра я жду от него ответа.
На следующий день она объявила Цецилии за ужином, чтобы унизить ее перед всеми:
– Я получила от твоего дяди письмо. Ты сегодня же вечером уложишь вещи, и завтра утром мы посадим тебя в поезд. Дядя встретит тебя в Берлине на Центральном вокзале.
– Хорошо.
Герр Сун улыбался госпоже профессорше, глядя ей прямо в глаза, и, невзирая на ее протесты, налил ей бокал вина. Фрау профессорша ела в тот вечер с завидным аппетитом. Но ее торжество было преждевременным. Ложась спать, она позвала слугу.
– Эмиль, если сундук фрейлейн Цецилии уложен, ты сейчас же снесешь его вниз. Носильщик придет за ним перед завтраком.
Слуга ушел, но сразу же вернулся.
– Фрейлейн Цецилии нет в комнате и ее чемодана тоже.
Фрау профессорша с воплем кинулась в комнату девушки: на полу стоял запертый и стянутый ремнями сундук, но чемодан исчез; исчезли также и пальто и шляпа фрейлейн Цецилии. На туалете было пусто. Тяжело дыша, фрау профессорша бросилась вниз, в комнаты китайца; лет двадцать ей не доводилось бегать так проворно; Эмиль кричал ей вдогонку, чтобы она поостереглась и не свалилась с лестницы. Она ворвалась к герру Суну без стука. Комнаты были пусты. Вещей его тоже не было, и раскрытая дверь в сад позволяла догадаться, как их вынесли. В конверте на столе лежали деньги за пансион и на оплату дополнительных расходов. Внезапно лишившись сил, фрау профессорша со стоном плюхнулась на диван. Сомнений не было. Парочка сбежала. Эмиль был бесстрастен и равнодушен, как всегда.
31
Хейуорд уже целый месяц твердил, что завтра уезжает на юг, но откладывал отъезд с недели на неделю: ему было лень собирать вещи, и его страшила дорожная скука; наконец под самое Рождество его выжили приготовления к празднику. Самая мысль об увеселениях этих тевтонов была ему невыносима. Мороз продирал по коже, когда он думал об их шумном, горластом празднестве, и, стремясь от него улизнуть, он решил пуститься в путь в самый сочельник.
Его отъезд не опечалил Филипа: он был человек последовательный, и его раздражало, когда кто-нибудь не знал, чего хочет. Хотя он и находился под сильным влиянием Хейуорда, он никак не мог согласиться с ним, что нерешительность – свидетельство тонкой душевной организации; его злила усмешка, с которой Хейуорд взирал на его прямолинейность. Они стали переписываться. Хейуорд отлично писал письма и, зная за собой этот дар, не жалел на них сил. Он был восприимчив к красоте и в своих письмах из Рима умел передать тонкий аромат Италии. По его мнению, столица древних римлян была чуть-чуть вульгарна – эпоха упадка Римской империи была куда благороднее; но особенно близок был ему папский Рим, и в его изощренно-отточенных фразах оживала изысканная прелесть стиля рококо. Он писал о старинной церковной музыке и об Альбанских горах, о томящем запахе ладана и о прелести ночных улиц в дождливую пору, когда мостовая блестит в таинственном свете уличных фонарей. Может быть, он переписывал свои изящные письма по нескольку раз, адресуя их разным приятелям. Он не представлял себе, как волновали эти письма Филипа; жизнь стала казаться ему такой унылой. С наступлением весны Хейуорд стал изливаться в дифирамбах Италии. Он звал туда Филипа. Оставаться в Гейдельберге было пустой тратой времени. Немцы – люди грубые, а жизнь в Германии так тривиальна; можно ли обрести величие духа, глядя на чопорный ландшафт? В Тоскане весна пригоршнями рассыпала цветы, а Филипу всего девятнадцать лет; пусть он приедет – они пойдут бродить по горным селениям Умбрии. Звучные итальянские слова отзывались в сердце Филипа. Цецилия и ее любовник тоже поехали в Италию. Вспоминая о них, Филип испытывал непонятное беспокойство. Он проклинал судьбу за то, что у него не было денег на путешествие: он знал, что дядя ни за что не пошлет ему больше пятнадцати фунтов в месяц, о которых они договорились. Да и эти деньги он тратил не слишком-то разумно. Плата за пансион и за уроки поглощала их почти целиком, а общество Хейуорда обходилось ему недешево. Хейуорд часто подбивал его отправиться куда-нибудь подальше на прогулку, сходить в театр или предлагал распить бутылочку винца, когда деньги Филипа уже были истрачены; юношеское легкомыслие не позволяло ему признаться приятелю, что он не может разрешить себе такую роскошь.