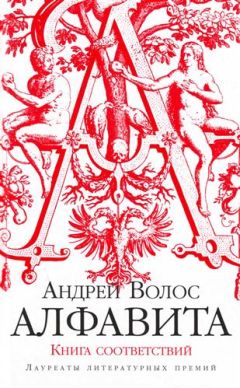Лори Ли - Сидр и Рози
В ответ на мой крик стены рушились, как от удара молнии, и все снова становилось нормальным. Распахивалась кухонная дверь, по лестнице торопились чьи-то ноги, и в комнату врывались девочки. «Он снова видел эти лица», — шептались они. «Теперь все будет в порядке! — бодро заявляли они мне. — Ну, ну! Ты больше их не увидишь. Попей-ка вкусненькой лимонной водички». Они обтирали меня и поправляли мне постель. Я тихо лежал на спине, пока они суетились вокруг; но что я мог им объяснить? Что я не видел лиц — что я видел только улыбки? Однажды я попытался, но это никуда нас не привело.
Позднее, когда надо мною смыкались красные ночи, я был уже почти без сознания. Я слышал себя: как я пел, стонал, разговаривал, и звуки бегали по моему телу, как прикосновения рук. Кровь закипала, плоть плавилась, зубы стучали и лязгали, колени подтягивались к подбородку; я лежал в липком болоте из пота, который одновременно и тек по мне, и леденил. Моя рубашка, как дождевое облако, влажной примочкой облегала мое тело в гусиной коже, а поверху попеременно дули то раскаленный ветер из Африки, то арктический Борей. Все предметы в комнате снова становились расплывчатыми, и картины менялись по их желанию; вещи носились вокруг, самовольно меняли очертания, ужасно разрастаясь или удаляясь в бесконечную даль. Пламя свечи отбрасывало тени, которые укрывали все вокруг, как плащом — под ним исчезал то один предмет, то другой. Или свет взлетал в виде светящегося святого, который, хихикнув, вдруг опадал, образуя шар. Я слышал голоса, которые не умели контролировать сами себя — они или почти неслышно шептали, или внезапно выкрикивали какие-нибудь совершенно неожиданные слова, например, «Лопата!» или «Ослиные уши!», и затем звенело долгое эхо. Ощущение было такое, будто лошадь лягнула пианино.
Несомненно, именно я сам произносил эти непонятные слова, монолог иногда продолжался часами. Порой я нарочно отвечал, но в большинстве случаев тихо лежал и прислушивался, наблюдая, как темные трещины в комнате начинали куриться, напуская белые ночные кошмары… Такая ночь лихорадки замедляла бег времени, будто кто-то специально засовывал в часы салфетку. Я проскальзывал под поверхностью сна, как ныряет дельфин в тропических морях, но слышал сквозь толщу воды, как в сухом доме разносится эхо, следуя за изгибами глубинного сна. Затем я выныривал из своих глубин, из лет переживаний, из переплетений жизни и смерти, чтобы обнаружить, что мир не стал старше ни на минуту.
Между таким сном и бодрствованием я проживал десять поколений и слабел, пройдя столько. Но когда, наконец, вырывался из бесконечного бреда, реальный мир вдруг представлялся очень дорогим. Пока я спал, он очищался от лихорадки и пота, и теперь лелеял меня, как хрустальную вазу. Освеженный, я с удовольствием прислушивался к его самым слабым звукам: бегу ручья, шуму деревьев, трепету крыльев птиц, кашлю овец на холмах, стуку далекой калитки, дыханию лошади в поле. Из кухни подо мною доносилось уютное бормотание, прошуршали шаги на дороге, какой-то голос произнес: «Доброй ночи», скрипнула дверь, закрывшись, раздался громкий свист, звук прокатился в темноте и ему ответили издалека. Я лежал, растроганный до идиотизма этими дорогими звуками, как будто только что вернулся из мертвых. Но лихорадка возвращалась, как она всегда делала. Комната снова начинала свои шепотки и танцы, обгоревшая свечка вспыхивала последний раз, вздрогнув, я видел, как ее фитиль падал и гас… Темнота била меня наотмашь, разъедающая темнота, темнота, поглощающая, как закрытый короб, с потолка спускались черные светила и, улыбаясь, плыли прямо на меня. И опять я в ужасе тряс прутья кровати и громко кричал, призывая сестер и свет.
Такой круговорот бреда был знакомым визитером, но моя семья долго привыкала к нему. Джек спрашивал, нужно ли мне так много стонать, а Том проверял меня всякими хитрыми уловками; в большинстве же случаев со мною обращались, как с больной собакой, оставляя в покое до поправки, до лучших времен. Лихорадка налетала вдруг, драматически, она нарастала стремительно, но сжигала себя довольно быстро. Затем следовал период выздоровления, когда я жил на молочных продуктах и сухарях; потом на меня накатывала тоска, я поднимался и уходил, начинал драться и вопрос о моей болезни закрывался. Кроме лихорадки с бредом, который смущал меня и ставил в замешательство, я никогда ничем больше не болел, и, несмотря на разговоры о рубцах в легких и ТБЦ, мне в голову никогда не приходило, что я могу умереть.
Но однажды ночью, обливаясь потом во время очередной атаки, которая, казалось, ничем не отличалась от остальных, я испытал шок, вызвавший у меня почти сладострастное благоговение. Как обычно, лихорадка вспыхнула резко, я метался в привычном пожаре, когда вдруг, проснувшись среди ночи с ясной головой, я обнаружил всю семью вокруг своей постели. Семь пар глаз смотрели на меня, пораженные страшной догадкой не обо мне, а с чем-то внутри меня. Мать стояла, беспомощно заламывая руки, а девочки молча плакали. Даже Харольд, который обычно не проявлял эмоций, выглядел бледным и напряженным в свете свечи.
Я удивился их молчаливости и, заглянув им в глаза, увидел там смесь страха и печали. Что привело их внезапно, в слезах, в темноте ночи к моей кровати? Мне было тепло и уютно, я чувствовал себя полностью расслабленным, мне хотелось смеяться, будто я как-то исхитрился обдурить их всех. Они начали перешептываться вокруг меня, обо мне, поверх меня, но не обращаясь напрямую ко мне.
— Таким он никогда раньше не был, — заявил один. — Слушать страшно его ужасную болтовню.
— И такого вида у него никогда не было — настоящее привидение.
— Как жестоко — бедный малыш.
— Он был таким веселым пареньком — ай-я-яй.
— Ну-ну, Фил; не убивайся так.
— Как вы думаете, придет викарий так поздно?
— Хорошо бы кто-нибудь сбегал за ним.
— Давайте постучим к Джеку Холлидею. Он может съездить за доктором на велосипеде.
— Присядь, Ма. У него ужасное дыхание.
— Может быть, позвонить отцу…
Будучи в полном сознании, я слушал все это и боролся с искушением присоединиться к беседе. Но странность их тона заставляла меня молчать. В их поведении чувствовалась какая-то особая угроза, некий род испуганного благоговения присутствовал в их глазах и голосах, как будто они увидели за мною тень могилы. Именно тогда я понял, что сильно болен; но без боли, тело мое чувствовало себя нормально. Девочки молча готовились к дежурству, оборачиваясь в шали. «Иди, отдохни немножко, Ма, мы позовем тебя попозже». Они важно расселись вокруг кровати, сложили руки на коленях и принялись внимательно рассматривать мое лицо с ввалившимися глазами, боясь пропустить первые признаки фатальных перемен. Меня сковало молчание этих напряженно ждущих фигур. И тут, в этот зябкий час посреди ночи до меня впервые в жизни дошло, наконец, что я вполне мог умереть.
Больше ничего не помню из той мрачной истории, думаю, что просто заснул — под защитой сестер мои веки спокойно сомкнулись. Вполне возможно, что сестрички могли стать последним из виденного мною на земле. Когда я, к их огромному удивлению, проснулся, кризис, по-видимому, миновал. И если бы не это ночное посещение и не последующее поведение всех жителей деревни, я бы никогда не узнал об опасности.
Я оставался в комнате Матери много недель, и камин пылал постоянно. В своих лучших одеждах приходили соседи, будто совершали паломничество, приносили цветы. Одноклассницы присылали куриные яйца, разрисованные поцелуями, а одноклассники дарили свои ломаные игрушки. Даже школьная учительница (чье сердце было из камня) принесла целый кулек конфет и орехов. Наконец, Джек, не в силах хранить секрет дольше, рассказал, что за меня молились в церкви, перед алтарем, дважды — два воскресенья подряд. Моя тарелка была полной, я чувствовал себя бессмертным; очень мало кому выпадало пережить подобные почести.
На этот раз выздоровление шло еще приятнее, чем всегда. Я жил на бульонах с сухими, воздушными бисквитами. Ежедневно меня растирали камфорным маслом и делали горячие обертывания. Лежа в едких парах перца, я целыми днями играл. Мою кровать завалили четками, комиксами, засушенными цветами, старыми патронами, складными ножами, блестящими пробками, цикадами в коробочках, принесли даже несколько чучел коноплянки.
Я старался использовать все преимущества положения больного и действовал очень просто, когда мне что-нибудь не нравилось. Особенно когда дело доходило до принятия лекарств — целого глотка непереносимой гадости.
Это было заботой сестер — заставить меня проглотить такую дрянь, и они подолгу стояли надо мною с протянутой ложкой.
— Ну давай, малыш. — Раз! Два! Три!..
— Потом дадим вылизать банку из-под варенья…
— Мы заткнем тебе нос. Ты его вовсе не почувствуешь.