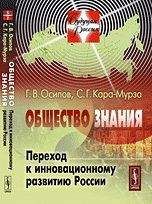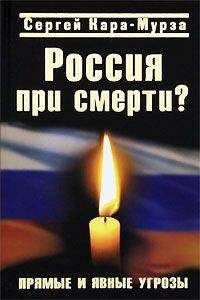Константин Паустовский - Романтики
В Саксонском саду в сумраке, в золотеющем тумане молодого месяца распускалась сирень. Оркестр играл негромко и печально.
– Какой мелодичный вечер, – тихо сказала Попова. – И рана у меня так слабо ноет, заживает. И сирень, и огни – так все хорошо, прямо до слез. Кто это выдумал войну? Кому это нужно!
Трупы в реке
Уже месяц, как мы стояли на Сане, мутном и быстром. По ту сторону тянулся сосновый лес, желтый от брошенных окопов. День и ночь нашу халупу заносило пылью. Песок трещал на зубах и разъедал глаза.
По неровной насыпи проползали воинские поезда, медленно шли по деревянному мосту над шумящей рекой. Ночью ярко бродил по берегу сноп полевого прожектора.
Под горячим ветром в песках трепыхался наш изорванный заплатанный флаг Красного Креста.
Шли частые, спутанные и странные бои. Привозили молчаливых, сожженных ветром раненых, по ночам явственно громыхали орудия за Розвадовом, и выли одичалые псы.
Изредка приезжал из Люблина, из «базы», Вебель с кипой газет, писем и ящиком папирос Габая «Ява» в зеленых коробках. В летучке начинался праздник. Мы зачитывались газетами и накуривались до одурения. Козловский переставал вздыхать, сестры оживали. Попова жила в Люблине у Вебеля, – у нее снова открылась рана.
Вечером мы ходили к желтому Сану и просиживали на берегу до поздней ночи. Немолчно шумела река, качая в мутной воде громадные звезды.
– Это к жаре и засушью, – говорил Щепкин.
Раскаленные пески, исполинское ржавое солнце, весь день дымившее над горелыми лесами, тепловатая вода в колодцах – все это измучило нас, мы замолкли, редко говорили друг с другом, ждали. Однажды сестры вернулись после купанья бледные, раздраженные: по Сану плыли раздутые смрадные трупы.
К ночи разгорелась канонада. Я ворочался на койке и слушал, как за Саном от края до края земли перекатывался железный гром. Было душно, кисло, около свечи густо жужжали мухи.
Я встал и вышел. Высоко в небесном колодце стоял месяц. Вода в Сане вздрагивала лунной рябью от ударов орудий. Небо розовело далеким пожаром. Я медленно пошел к мосту.
– Стой! Кто идет? – испуганно и негромко окликнул меня часовой.
Я отозвался.
– Господи, господи, – сказал часовой молодым голосом. – Когда-то будет конец?! Зло так за душу и берет. Нет тебе ни днем, ни ночью ни сна, ни покоя: то наступление, то отступление. Толчем землю на одном месте, как стадо. Для кого, для чего – никто толком объяснить не умеет. Поля дома небось не засеяны, бабы обрюхатились. Скотина пропадает.
Он стукнул прикладом о настил моста, поглядел на зарево и сказал:
– Горит… Кому от этого какая выгода, что Польшу изматерили, затоптали вконец. На этом поле колос расти не будет. Сказывают, германцы опять нажали, опять прорыв.
Я вернулся в халупу. На дворе около костра сидели Вебель и Алексей.
– Что вы шатаетесь по ночам, – сказал Вебель и вздрогнул. – Спали бы лучше! Слышите, как заводят. Не люблю я этой штуки, накличут беду.
– Тоска, – сказал Алексей и зевнул. – Бессонница. А надо бы выспаться: не сегодня-завтра попрем опять по ступицу в песках.
Вебель курил, и огонек папиросы поблескивал в его насмешливых острых глазах. В халупе глухо заорал уцелевший петух. Судорога канонады передергивала душную тишину.
Я пошел к двуколкам и лег на сене, прислушиваясь к орудийному бою. Поля тяжело дрожали.
Макензен
Мы отступали. Около песчаных, разбитых обозами дорог горели несметные костры – становья беженцев. Разметав сверкающие хвосты, тосковали над черными польскими полями забытые звезды. Дым костров мешался с болотным туманом.
Ночью мы качались в седлах, тяжело разлепляли глаза и останавливались, наезжая на передних.
– Стой! Сто-о-й!…
Часами стояли около мостов в заторах, ежась от сырости, поглядывая назад, где низким заревом горели в пыли деревни. С высоких придорожных распятий глядел на нас угловатый, обугленный Христос.
Через Люблин проходили ночью. Его извилистые улицы были запружены обозами. От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, метались женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы. По белым карнизам зданий бегал красный свет факелов.
Шагом, по тротуарам, ругаясь и сбрасывая с дороги узлы с вещами и поминутно останавливаясь, мы добрались до пустынного переулка, где стояла «база». Пахло цветущей липой, многоголосо шумела отступающая армия.
Во дворе «базы», около каменного фонтана, навьючивали фурманки, был слышен резкий голос Вебеля. Я придержал коня и посмотрел в глубь переулка, в сумрак липовых садов. Далеко, золотясь в темной листве, всходила предрассветная луна.
Пока «база» сворачивалась и взволнованные санитары выводили лошадей, я поднялся наверх, в мезонин к Поповой.
– Как я благодарна этому отступлению, – сказала Попова. – Наконец-то! Я так измучилась здесь одна! Скажите, что это? Почему так уходят?
– Макензен, – ответил я и закурил папиросу ог лампы с зеленым абажуром. – Немцы прорвали фронт.
– Какие-то вы все стали иные, – сказала она, вглядываясь в меня. – Постарели на десять лет.
– Ну, как вы? Как рана?
– Уже проходит. Здесь было так тихо, славно. Со мной жила только хозяйка – старая панна в наколке – и ее маленький племянник. Они ушли в дом ксендза, им стало страшно. Я боялась остаться одна, я думала, что вы не найдете нас в этой каше и пройдете мимо. Вебель тоже волновался.
За садами шли обозы – будто лилась по камням грохочущая горная река. Во дворе заиграла труба.
– Сбор. Идемте.
– Погасите лампу, – сказала Попова. – Как мне жаль эту комнату.
Я задул лампу. За открытым окном над верхушками деревьев мутно краснело небо, дул порывами горячий ветер. Он сорвал с подоконника и унес в сад какие-то старые письма.
Страна Шопена
В Вышницы пришли под вечер. В клубах пыли, поднятой стадами, висел изорванный флаг коменданта. Бегала по дворам местечковая милиция – старые евреи с красными повязками на рукавах – и сгоняла женщин на окопные работы. Иссохшие поля были густо уставлены беженскими фурманками. Ревели, захлебываясь, дети, и тоскливо мычала скотина.
– Сгибла Польша, – сказал спокойно Козловский, когда мы сошли с коней. – Видели, около дороги из песка торчат детские ноги? А беженские свиньи раскапывают и едят эти трупы.
– Zginela Polska! – повторил он почему-то по-польски и махнул рукой. – Великая земля, взрастившая Шопена.
Ночью мы обходили фурманки. Почти на каждой были тифозные. Тяжелый смрад висел над полями, больные терли красные глаза, засыпанные сеном, и дико смотрели на огонь наших карманных фонариков. Дымили в черное небо жалкие костры. Около вычерпанных до дна колодцев мужики дрались из-за ведра жидкой глины.
Мы завели походные котлы и на рассвете начали раздавать беженцам похлебку.
До позднего утра вокруг котлов ревела и металась толпа, старухи, свистя и задыхаясь, пили похлебку из мисок, бабы, с тощими, выкрученными, как белье, грудями, совали плачущим детям в рот куски серого мяса.
Черные мужики бродили, что-то выискивая по полям. Низкий дым и запах горящего тряпья сочились из местечка.
Час спустя, когда мы сидели в тесной клетушке, а за перегородкой шушукались старые панны-хозяйки, пришел комендант и грубо сказал:
– На ночь поставьте часовых у двуколок. Иначе у вас снимут все колеса. Тут кругом разбой и грабеж. Видите, половина домов без крыш: тащат все на костры. А эта обозная сволочь забила все дороги, раскрала все на двадцать верст. Кругом армия, а у них тиф. Все колодцы вычерпали, все реки загадили.
Он закурил и сломал спичку.
– Каждый день встаешь зверем, дерешься, солдат вгоняешь в кровавый пот. Война. Она кому мать, а кому и… мать! – выкрикнул он с сердцем.
Вечером пришел приказ отходить к Бресту. С позиций шли глухие и непонятные слухи. Алексей ушел с тяжелым обозом вперед и должен был ждать нас в местечке Пищиц, в двадцати верстах от Бреста.
Ночью я несколько раз выходил курить на крыльцо. Около коновязи кусались лошади и ходили, поругиваясь, часовые. Верстах в десяти разгорался бой.
Чужой отряд
В Пищице мы Алексея не застали. Был вечер. Заспанный комендант порылся в записях, расспросил квартирьеров и сказал, что отряда такого не было и чтобы мы оставили его в покое.
– Вот что, – сказал мне Козловский. – Алексей, должно быть, пошел другой дорогой и завяз в песках. Там пески по ступицу. Вы останетесь здесь и будете его ждать. Если станет опасно, уходите в Брест и потом на Чевнавчицы.
– Ладно.
Он перекрестил меня и поцеловал.
– Не сидите только до последней минуты, – сказал он, садясь на копя. – Дело скверное. Уже рвут полотно.
Со стороны Лукова были слышны взрывы. Обоз тронулся. Заспанный квартирьер проводил меня в дом при костеле.
Шумел мокрый сад. Двери в доме стояли настежь, в комнатах не было ни души. Солдат достал мне свечу и принес чаю.