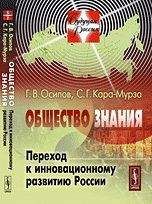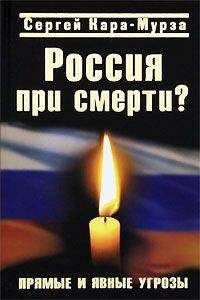Константин Паустовский - Романтики
Мы со Щепкиным пошли в местечко. Щепкин спрашивал у всех евреев, стоявших у калиток, где здесь можно побриться. Веснушчатый юноша провел нас с заднего крыльца к старому парикмахеру.
– Вас поброть? – спросил он удивленно. – Я сам не знаю, что делать. Одни говорят – уходите, потому что будет бой и казаки подпалят местечко, другие говорят – сиди, куда ты пойдешь с малыми детьми?
– Оставайтесь, – уверенно сказал Щепкин. – Будет бой – в погреб полезете. А уйдете – все перемрете.
– Рива, – крикнул парикмахер в заднюю комнату. – Его благородие господин офицер говорит, чтобы мы да оставались.
Пришла грудастая еврейка с сизым лицом, и комната быстро наполнилась детьми, старухами, почтительными пожилыми евреями. Они волновались, кричали и показывали на парикмахера худыми желтыми пальцами.
– Мы все разом решили да не уходить, – перевел нам весь этот шум парикмахер. Потом он неожиданно рассердился и крикнул: – Дайте мне спокой! Что? Должен же я поброть господ офицеров. Ша, гей авек, гей авек.
Евреи стихли и ушли.
Пока парикмахер брил Щепкина при свете жестяной лампочки, деликатно придерживая его за нос табачными пальцами, я сел к колченогому столу и потянул к себе засаленный, разорванный «Огонек». Бились о стекло мухи за желтыми заштопанными занавесками.
В тусклом зеркале я тщательно рассмотрел себя – черное, с лихорадящими глазами лицо.
Ночью я лег с Вебелем в саду. В траву гулко падали яблоки. Во сне я ворочался и кого-то звал, кого – не помню. На рассвете я проснулся. В густую ночь сочился серый обыденный день. Между яблонями стоял туман. Я посмотрел на звезды, ставшие во сто крат ярче перед рассветом, вспомнил Хатидже, встречу с Наташей, и в горле застрял шерстяной раздутый комок.
«Где нет печали? – подумал я и закурил. – В жизни нет ничего выше любви, выше сродства людей».
Падали яблоки, и пели по местечку охрипшие петухи.
Цветут поля
Подходили к Ружанам. Долго брызгали грязью и чавкали копытами по лужам около кривых кузниц и опустошенных шинков. Долго сдавали раненых тыловому отряду. Пахнущий мылом пухлый комендант отвел нам халупу и предупредил, что он сейчас уходит на Слоним.
Через два часа, когда нас поили молоком набожная вдова-полька и ее застенчивая дочка – работница с кожевенной фабрики, пришел Козловский и приказал запрягать: немцы прорвались к северу и загибают во фланг.
– Беда, – говорили в темноте санитары, возясь около лошадей. – Не иначе как здесь измена. Что ж с им, картошкой, что ли, драться, с германцем?
– А убитых!… – добавил шепотом Полещук, наклонившись ко мне. – Так поля ими и цветут, ваше благородие. Ой, богатый будет урожай. Богатый урожай, так его и так!
– Не копаться! – крикнул Козловский и крепко выругался в пространство.
Дочка хозяйки села на переднюю двуколку показать дорогу до шоссе. Черная ночь легла на местечко, капал редкий дождь. Мы медленно начали спускаться в глубокий овраг. Лошади храпели, задирали морды, скользили и осторожно нащупывали дорогу.
– Одерживай, задние, не раскатывай! – хрипло кричал Козловский. – Что там? Брод? Не наезжай, ноги коням поломаешь! Занесла чертова сила в эту дыру!
Дождь стучал по парусиновым верхам двуколок. Лошади упорно трудились, тяжело дыша боками. За оврагом взмыла в небо и хлопнула, залив все неживым светом, боевая ракета.
– Чего пускают? – сказал Алексей. – Без толку пугаются, сволочи.
Глухо лаяла собака, запертая в хате. У околицы сидели темные кучи солдат, изредка звякали манерки, винтовки. В овраге ударил выстрел. Дочка хозяйки сошла.
– Ну, я как-нибудь добегу, – прошептала она дрожащим неуверенным голосом. – Да хранит вас матерь божья.
– Чего стали? Проезжайте, – сказал из темноты молодой возбужденный голос.
Мы пошли рысью. На дороге пахло березами, мокрой корой.
– Тихо что-то очень, – сказала мне из двуколки Попова. – Ничего не понимаю, что творится.
– Стой! – негромко крикнули впереди. – Кто едет?
Козловский ответил.
Ветер шумел в старых аракчеевских березах. Потом ночь разорвал тусклый блеск и тяжкий сыплющийся грохот, будто рухнуло многоэтажное здание.
– Мост взорвали.
Нервно и часто защелкали выстрелы сотнями расколотых орехов. Войска отходили, не успевая рыть окопы. В канаве у дороги негромко и испуганно перекликались солдаты: «Связь… связь… связь…»
Перед утром над мокрыми перелесками выползла рыжая луна. Свет ее задрожал в чернильной воде болот. Ветер гулко промчался по верхушкам берез и стряхнул за шиворот ледяные брызги. Стало холодно, неуютно.
Днем мы пришли в Слоним.
Пустяковая рана
Над серыми селами дотлевала заря. Я отстал от своих и медленно ехал по полевой дороге. Над немецкими окопами взвилась ракета – яркий фонарь. Потом другая, третья, потом поднялись и вспыхнули, осыпая белые хлопья, целые десятки их. Они осеребрили далекий лес и поля, затянутые осенней паутиной. Защелкали выстрелы. Ударило орудие с нашей стороны, и, разгораясь за перелесками, заговорила канонада.
Веселая и звонкая шрапнель лопнула над головой, град защелкал по дороге, и в ту же минуту я почувствовал мокрую теплоту в плече, наклонился к шее коня и медленно сполз с седла. Подо мной была мягкая пыль, странная музыка играла в небе, плясали над лесом хлопья невиданных звезд.
«Должно быть, ранен», – подумал я безразлично и потерял сознание.
Я пришел в себя в холодном стодоле. На ящике горела свеча. Я был обнажен до пояса, и незнакомая сестра окровавленной марлей вытирала мне грудь. В плече застряло что-то острое, я не мог вздохнуть и вдруг почувствовал, что у меня на спине около лопатки нет кожи, а обнаженная кость и горячее рваное мясо. Давили мокрые и теплые бинты.
– Снимите повязку, – грубо сказал я пожилой сестре. – Мне жарко.
Она с усмешкой посмотрела на меня и дала мне выпить из жестяной кружки мутной валерьянки. Я попробовал поднять здоровую правую руку, но колючий обруч стиснул грудь, захрустело в левом плече и оцарапало кость.
– Сидите тихо, – сказала сестра и накинула мне на плечи парусиновый халат.
Меня перевели в халупу. Ночью я полулежал на боку и тоскливо слушал канонаду. За черными платами полей металось по ветру зарево.
– Жгут все станции на Лунинец, – сказал в соседней комнате хриплый бас.
«Ранен, – думал я бессвязно. – Где наши? Надо им завтра дать знать».
Какая тоска. Хатидже, родная, милая… Давно, страшно давно уже не было писем. Слава богу, что жив.
Я забылся. Мне снилось, что ночью пришел Вишглер и гладил мою раненую руку, что стекла расплавились от огня и во внезапной тишине монотонный голос служил панихиду. Пьяный хор разухабисто пел «Со святыми упокой». Мне снилось, что Алексей схватил меня за больное плечо и крикнул что-то о Наташе, и я скакал всю ночь по оврагам, задыхаясь от ужаса. На перекрестке, под черным распятием, я встретил старика, сдержал коня и спросил, как проехать на Брест. Он молчал. Я тронул его за плечо и увидел, что он был мертв: его закатившиеся белки были красными от зарева.
Я проснулся. В углах халупы шуршали тараканы. Я потрогал опухшую руку и тихо заплакал. Впервые за время войны я понял, как ненужно и глупо было все это.
Я кусал щетинистое солдатское одеяло и сквозь слезы видел пламя пожаров в черных ненавистных полях. Дряхлеет сердце. Странным далеким криком звенит душа, натянутая в струну.
– Боже, – тихо сказал я и дотронулся до обескровленной плети-руки. – Лишь бы вынести! Лишь бы донести до лет, что наступят после войны, все, что прожито, не расплескать. Кровью, горечью, ядом сукровицы, горячечным огнем выжечь из себя всякую память, все следы этих месяцев.
Снова начался бред.
В бреду я видел, как Наташа в синем коротком платье шла со мной по каменной набережной к морю. Впереди плавился в солнце, как глыба снега, океанский белый пароход. На пароходе звонили в колокол. Воздух был тонок и странен. Море качалось со свежим шумом, серебряные рыбы летали над гаванью, далекие плавания сверкнули нам в глаза, как оперение синих птиц, их крылья задевали мое больное плечо. Я вскрикивал от боли.
Весь день двуколку трясло по полевой дороге. Вечером меня перенесли в жаркий вагон санитарного поезда и вскоре увезли. Никого из наших я больше не видел.
Голубые огни вокзалов. Лица незнакомых врачей, запах масляной краски, грохот колес, тяжелые сны, горячий пот, стоны, и снова печальные сны.
Потом помню сероватый вечер, речонку в полях, синий церковный купол и заросшие травой улицы дрянного городка в Тульской губернии.
Город в полях
Лазарет был размещен в бывшем винном складе. Надтреснуто бренчали колокола убогих церквушек и скрипели, подымая пыль, крестьянские телеги. Вечерами за рекой, озерами подымался туман, пахло из-за околиц ржаными полями, покоем. В розовых далях заходило неторопливое, деревенское солнце. На Черкесской слободе пели бабы, и я невольно откладывал в сторону растрепанный том «Русской мысли». Говорил я мало и неохотно. Я похудел, около губ протянулись две тонкие морщины. Часто болела голова.