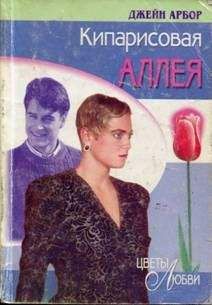Аксель Мунте - Легенда о Сан-Микеле
Я показал ему билет второго класса до Любека и сказал, что я обыкновенный пассажир, еду в Швецию по своим делам и к гробу никакого отношения не имею.
— Вы Leichenbegleiter или нет? — грозно рявкнул он.
— Разумеется, нет. Я готов взяться за любую работу, но быть Leichenbegleiter отказываюсь наотрез. Это слово мне не нравится.
Начальник станции посмотрел на кипу документов и заявил, что если в течение пяти минут Leichenbegleiter не появится, то вагон с гробом будет отцеплен и останется в Гейдельберге на запасном пути. Не успел он договорить, как к его столу подскочил невысокий рябой горбун с бегающими глазками и протянул ему пачку документов.
— Ich bin der Leichenbegleiter, — объявил он с большим достоинством.
Я чуть не расцеловал его — я всегда питал тайную симпатию к горбунам. Я сказал, что я необычайно рад с ним познакомиться, что я еду в том же поезде, что и он, до Любека и на том же пароходе до Стокгольма. Мне пришлось ухватиться за край стола начальника станции, когда горбун ответил, что едет вовсе не в Стокгольм, а в Петербург, а оттуда в Нижний Новгород, провожая гроб русского генерала.
Начальник станции поднял голову от своих документов, и его усы изумленно ощетинились.
— Гром и молния! — взревел он. — Значит, с этим поездом в Любек следуют два покойника? Но я принял только один гроб. В один гроб двух покойников не кладут. Verboten! Где другой гроб?
Горбун объяснил, что гроб генерала сейчас погрузят в вагон. Во всем виноват столяр, который доставил второй ящик в самую последнюю минуту. Но кто мог предполагать, что ему в один день закажут два таких громадных ящика!
Русский генерал! Тут я вспомнил, что слышал, будто в один день с моим юношей в соседнем отеле умер от апоплексического удара русский генерал. Я даже припомнил, что из своего окна видел в саду гостиницы сурового старика с длинной седой бородой, которого везли по дорожке в кресле-каталке. Портье сообщил мне, что это знаменитый русский генерал, герой Крымской войны. Мне еще не приходилось видеть столь свирепого на вид человека.
Начальник станции вновь погрузился в свои бумаги, а я отвел горбуна в сторону, дружески похлопал его по плечу, предложил ему пятьдесят марок наличными и еще пятьдесят марок, которые я рассчитывал занять у шведского консула в Любеке, если он согласится взять под свою опеку не только гроб русского генерала, но и моего юноши. Он тотчас же согласился. Однако начальник станции заявил, что это беспрецедентный случай, не предусмотренный законом, и он не сомневается в том, что одному человеку сопровождать два гроба наверное verbolen. Он должен запросить Kaiserliche Oberliche Eisenbahn Amt Direction Bureau[65], и ответ придет не ранее, чем через неделю.
Положение спас вальдман. Несколько раз во время наших переговоров я замечал, что начальник станции из-под своих золотых очков ласково поглядывает на мою таксу и несколько раз он опускал огромную лапу под стол и гладил шелковистые длинные уши щенка. Я решился на последнюю отчаянную попытку тронуть его сердце — и молча положил таксу ему на колени. Тотчас облизав ему все лицо, щепок принялся дергать его за моржовые усы, и его суровая физиономия постепенно расплылась в широкую добродушную усмешку над нашей с вальдманом беспомощностью.
Пять минут спустя горбун подписал десяток бумаг в качестве Leichenbegleiter двух гробов, а мы с вальдманом и саквояжем вскочили в переполненное купе второго класса, когда поезд уже тронулся. Вальдман сразу принялся заигрывать с сидящей рядом толстой дамой, но она, строго на меня посмотрев, заметила, что возить собак в купе второго класса verboten, но, во всяком случае, эта собака чистоплотна? О, конечно! Она удивительно чистоплотна с самого рождения. Тут вальдман обратил внимание на корзинку, которую дама держала на коленях, и принялся на нее яростно лаять. Он еще лаял, когда поезд остановился на следующей станции. Толстая дама вызвала кондуктора и показала на пол. Кондуктор сказал, что возить собак без намордника verboten. Напрасно я ему показывал раскрытый рот таксы, в котором еще почти не было зубов, напрасно я вложил в его руку мои последние пять марок, он был неумолим: собаку надо немедленно убрать в собачье отделение. Из мести я указал на корзинку толстой дамы и спросил, verboten ли возить кошек, не оплачивая их проезд. Разумеется, verboten. Толстая дама еще пререкалась с кондуктором, когда я спрыгнул на перрон. Отделения для собак в те дни были ужасны — темная дыра над самыми колесами, полная дыма от локомотива. Как я мог засунуть туда вальдмана? Я помчался к товарному вагону и принялся умолять служащего взять таксу к себе. Он ответил, что это verboten. Тут осторожно раздвинулись двери следующего вагона и в щели показалась голова горбуна. С кошачьей ловкостью я вскочил к нему в вагон с саквояжем и вальдманом.
Пятьдесят марок с выплатой но прибытии, если он нас спрячет в своем вагоне до Любека. Он не успел ответить, как двери были заперты снаружи, паровоз загудел и поезд тронулся. В большом товарном вагоне стояли только два огромных ящика. Было нестерпимо жарко, но места, чтобы расположиться поудобнее, хватало. Такса тотчас, же уснула на моем пальто, горбун достал из своего запаса бутылку теплого пива, мы закурили трубки и, усевшись на полу, начали обсуждать положение. Мы были в безопасности — никто не видел, как я вскочил в вагон, а поездная прислуга в него не заглядывает, уверил меня горбун. Когда час спустя поезд замедлил ход перед следующей станцией, я заявил, что меня разлучат с ним только силой, а так я до Любека отсюда не уйду. Часы проходили в приятной беседе: говорил Leichenbegleiter, а я больше слушал, так как объясняюсь по-немецки плохо, хотя довольно хорошо понимаю этот язык. Мой новый приятель сказал, что много раз совершал это путешествие, и называл все станции, на которых мы останавливались, хотя из нашего вагона-тюрьмы нам ничего не было видно. Он сопровождает покойников уже более десяти лет — работа приятная и спокойная, а он к тому же любит много ездить и знакомиться с новыми странами. В России он уже побывал шесть раз, и русские ему очень нравятся: они всегда просят, чтобы их похоронили на родине. В Гейдельберг приезжает много русских посоветоваться с знаменитыми профессорами. Это его лучшие клиенты. А жена у него — Leichenwascherin[66]. Без них не обходится почти ни одно бальзамирование. Указав на второй ящик, он добавил, что был очень расстроен, когда их не пригласили к шведскому господину. Он подозревал интригу — конкуренция в их профессии довольно велика, а два его коллеги люди очень завистливые. Да и вообще в этом деле кроется какая-то тайна: он так и не узнал, кто производил бальзамирование. Не всякий врач владеет этим искусством. Бальзамирование — очень сложная и тонкая вещь, и никогда нельзя знать, что произойдет при такой долгой поездке и в такую жару! А мне приходилось помогать при многих бальзамированиях?
— Только при одном, — ответил я, содрогаясь.
— Жаль, что вы не можете посмотреть на русского генерала, — воскликнул горбун восторженно и указал трубкой на второй ящик. — Он очень хорошо удался, просто не верится, что это покойник — даже глаза открыты. Не понимаю, — продолжал он, — что имел против начальник станции? Вы, правда, несколько молоды для того, чтобы сопровождать покойников, но выглядите вполне не прилично. Вам только надо побриться и почиститься а то ваш костюм весь в собачьей шерсти, и, конечно, вы не можете пойти завтра в шведское консульство с такой щетиной — вы не брились, по крайней мере, неделю и выглядите, как разбойник, а не как почтенный Leichenbegleiter. Жаль, что со мной нет бритвы, иначе я побрил бы вас на следующей остановке.
Я раскрыл свой саквояж и сказал, что буду ему очень благодарен, если он освободит меня от необходимости бриться самому — терпеть не могу этого мучения. Он осмотрел мою бритву с видом знатока и сказал, что шведские бритвы самые лучшие — он сам никогда другими не пользуется. У него легкая рука, он брил сотни людей, и никогда не было ни одной жалобы.
Меня действительно ни разу в жизни не брили лучше, и когда поезд тронулся, я не преминул сказать ему об этом, присовокупив множество похвал.
— Да, ничто не может сравниться с путешествиями по чужим странам, сказал я, стирая мыло с лица. — Каждый день узнаешь что-нибудь новое и интересное. Чем больше я знакомлюсь с этой страной, тем яснее понимаю, насколько немцы отличаются от других народов. Латинская и англосаксонская расы при бритье сидят прямо, а вы в Германии откидываетесь на спину. Все дело вкуса. Chacun tue ses puces a sa facon[67], как говорят в Париже.
— Это дело привычки, — объяснил горбун. — Мертвеца ведь не посадишь, а вы — первый живой человек, которого я брил.
Мой спутник расстелил чистую салфетку на своем ящике и открыл корзину с провизией. Мои ноздри защекотал смешанный запах колбасы, сыра и кислой капусты. Вальдман мгновенно проснулся, и мы принялись следить за горбуном голодными глазами. К моей великой радости, он пригласил меня принять участие в его трапезе. Даже кислая капуста показалась мне вкусной, а когда он протянул вальдману большой кусок колбасы, то полностью завоевал мое сердце. После второй бутылки мозельвейна между мной и моим новым другом уже почти не было тайн. Лишь одну я ревностно сберег — то, что я врач. По опыту, почерпнутому во многих странах, я знал, что стоит мне хотя бы намекнуть о сословном различии между нами, и я лишусь неповторимой возможности наблюдать жизнь так, как ее видит Leichenbegleiter. Тем немногим, что я знаю о психологии, я обязан врожденной способности ощущать себя на равной ноге с теми, в чьем обществе нахожусь. Когда я обедаю с герцогом, то чувствую себя с ним свободно и просто, а когда моим хозяином оказывается Leichenbegleiter, то и я, насколько это в моих силах, превращаюсь в его коллегу.