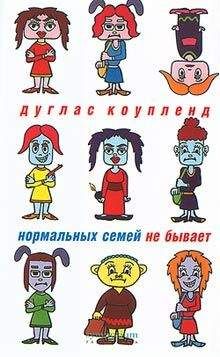Джон Фаулз - Волхв
— Мягкий?
— Шанкроид. Ulcus molle. В Средиземноморье этот недуг весьма распространен. Неприятно, но безобидно. Лучшее лечение — вода и мыло.
— Какого же черта…
Он потер большим пальцем об указательный: в Греции этот жест обозначает деньги, деньги и подкуп.
— Вы платили за лечение?
— Да. За этот специальный пенициллин.
— Выброшенные деньги.
— Я могу подать на клинику в суд.
— А как докажете, что не болели сифилисом?
— Вы хотите сказать, Пэтэреску…
— Я ничего не хочу сказать. С точки зрения врачебной этики он вел себя безупречно. Без анализа в таких случаях не обойтись. — Он будто выгораживал их. Чуть пожал плечами: такова жизнь.
— Мог бы предупредить.
— Наверно, счел, что важнее уберечь вас от болезни, чем от мошенничества.
— О господи.
Во мне боролись облегчение (диагноз не подтвердился) и гнев (я стал жертвой подлого обмана). Кончис продолжал:
— Будь это даже сифилис — почему вы не могли вернуться к любимой девушке?
— Знаете… сложно объяснить.
— Такие вещи объяснить всегда непросто.
Понемногу, понукаемый его вопросами, я путано рассказал об Алисон; отплатил за вчерашнюю откровенность той же монетой. И опять не ощутил его сочувствия; одно только плотное, беспричинное любопытство. Я сказал, что недавно написал ей.
— И она не отвечает?
Я пожал плечами.
— Не отвечает.
— Вы помните о ней, тоскуете — напишите снова. — Я слабо улыбнулся его энтузиазму. — Вы бросили все на волю случая. Предоставлять свою судьбу случаю — все равно что идти ко дну. — Потряс меня за плечи. — Плывите!
— Дело не в том, чтоб уметь плавать. А в том, чтобы знать, куда.
— К этой девушке. Вы говорите, она видит вас насквозь, понимает вас. И прекрасно.
Я не ответил. Черно-желтая бабочка, ласточкин хвост, порхала по бугенвиллеям Приаповой беседки; не найдя меда, скрылась между деревьями. Я чиркнул подошвой по гравию.
— Видно, я не умею любить по-настоящему. Любовь — это не только секс. А меня все остальное почему-то мало волнует.
— Милый юноша, да вы неудачник. Разочарованный, мрачный.
— Когда-то я слишком много о себе понимал. И, похоже, напрасно. Иначе теперь не считал бы себя неудачником. — Я посмотрел на него. — Дело не только во мне. Время такое. Все мои сверстники чувствуют то же самое.
— Именно сейчас, когда наступило величайшее в истории просветление? За последние пятьдесят лет тьма отступила так далеко, как не отступала и за пять миллионов!
— Под Нефшапелью отступила? В Хиросиме?
— Но мы с вами! Мы живем, и в нас дышит этот чудесный век. Мы-то не разрушены. И ничего не разрушали.
— Человек — не остров[49].
— Да глупости. Любой из нас — остров. Иначе мы давно бы свихнулись. Между островами ходят суда, летают самолеты, протянуты провода телефонов, мы переговариваемся по радио — все что хотите. Но остаемся островами. Которые могут затонуть или рассыпаться в прах. Но ваш остров не затонул. Нельзя быть таким пессимистом. Это невозможно.
— Очень даже возможно.
— Пойдемте. — Он вскочил, словно промедление было губительно. — Пойдемте. Я открою вам свою главную тайну. Пойдемте. — Заспешил к колоннаде. Мы поднялись на второй этаж. Он вытолкнул меня на террасу.
— Садитесь за стол. Спиной к свету.
Через минуту он вынес тяжелый предмет, завернутый в белое полотенце. Осторожно положил на середину стола. Помедлил, убедившись, что я смотрю внимательно, и торжественно убрал покрывало. Каменная голова — мужская или женская, не разберешь. Нос отколот. Волосы стянуты лентой, по бокам свисают две пряди. Но сущность скульптуры заключалась в выражении лица. На нем сияла ликующая улыбка; ее можно было бы счесть самодовольной, если б не светлая, философская ирония. Глаза с узким азиатским разрезом тоже улыбались — Кончис подчеркнул это, прикрыв губы скульптуры рукой. Мастерски схваченный изгиб рта навеки запечатлел и мудрость, и радость модели.
— Вот она, истина. Не в серпе и молоте. Не в звездах и полосах. Не в распятии. Не в солнце. Не в золоте. Не в инь и ян. В улыбке.
— Она ведь с Киклад?
— Неважно, откуда. Смотрите. Смотрите ей в глаза.
Он был прав. Освещенный солнцем кусочек камня обладал неземным достоинством; он нес не столько благодать, сколько знание о ее законах; неколебимую уверенность. Но, вглядевшись, я ощутил не только это.
— В ее улыбке есть что-то безжалостное.
— Безжалостное? — Он зашел мне за спину и посмотрел через мое плечо. — Это истина. Истина безжалостна. Но не ее суть и значение, лишь форма.
— Скажите, где ее нашли.
— В Дидиме. В Малой Азии.
— А когда изваяли?
— В шестом или седьмом веке до нашей эры.
— Интересно, какова была бы эта улыбка, знай скульптор о Бельзене.
— Мы чувствуем, что живем, только потому, что заключенные в Бельзене умерли. Мы чувствуем, что наш мир существует, только потому, что тысячи таких же миров погибают при вспышке сверхновой. Эта улыбка означает: могло не быть, но есть. — И добавил: — Когда буду умирать, положу ее рядом с собой. Другие лица мне видеть не захочется.
Головка наблюдала, как мы рассматриваем ее; наблюдала нежно, непреклонно, с жестокой неизъяснимостью. Меня осенило: та же улыбка порой играла на устах Кончиса; будто он тренировался, сидя перед этой скульптурой. Одновременно я точно сформулировал, что именно в ней мне не по душе. То была улыбка трагической иронии, улыбка обладателя запретных знаний. Я обернулся, посмотрел в лицо Кончиса; и понял, что прав.
24
Звездная тьма над крышей, лес, море; посуда убрана, фитиль лампы прикручен. Я откинулся в шезлонге. Он помедлил, пока ночь тихо обволакивала нас, оттесняла ход времени; и повлек меня сквозь десятилетия.
— Апрель пятнадцатого. До Англии я добрался без приключений. Но не знал, как вести себя дальше. Нужно было как-то оправдаться. В девятнадцать лет человек не согласен просто совершать поступки. Ему важно их все время оправдывать. Завидев меня, мать лишилась чувств. В первый и последний раз я узрел слезы на глазах отца. До самой встречи я собирался сказать им правду. Лгать было бы низко. Но лицом к лицу с ними… возможно, то была обычная трусость, не мне судить. Есть слова, произносить которые слишком жестоко. И я сказал, что мне выпал счастливый жребий; теперь, когда Монтегю убит, я должен вернуться в родной батальон. Врал как одержимый. Без расчета, с излишней изобретательностью. Заново выдумал битву под Нефшапелью, словно истина была недостаточно ужасна. Сказал даже, что рассматривается вопрос, не комиссовать ли меня.
Поначалу удача мне улыбалась. Через два дня после приезда пришло извещение, что я пропал без вести, по-видимому, погиб на поле боя. Подобные ошибки случались слишком часто, чтобы родители что-нибудь заподозрили. Бумагу торжественно порвали.
А Лилия! Видно, происшедшее помогло ей разобраться в своих чувствах ко мне. Во всяком случае, у меня больше не было повода для жалоб, что меня воспринимают скорее как брата, а не как любимого. Знаете, Николас, при всех отрицательных сторонах мировая война почти вытравила болезненный налет в отношениях между полами. Впервые с начала века женщина поняла, что мужчина ждет от нее кое-чего посущественнее монашеского целомудрия и bien pensant [50] идеализма. Я не хочу сказать, что Лилия вдруг пустилась во все тяжкие. Или что она отдалась мне. Но она уступила мне все, что могла. Эти часы наедине с нею… они придавали мне сил для дальнейшего обмана. И в то же время подчеркивали всю его низость. Вновь и вновь меня терзало желанье открыть ей правду, пока правосудие не настигло меня. Каждый вечер я боялся застать дома полицию. И ярость отца. И, всего хуже, взгляд Лилии. Но с нею я избегал вспоминать о войне. Ей казалось, что она догадывается о причинах моей уклончивости. Была глубоко тронута, проявляла невероятную деликатность. Ее теплота. Я присосался к любви, как пиявка. Весьма разборчивая пиявка. Лилия превратилась в очень красивую девушку.
Раз мы поехали на природу, к северу от Лондона — по-моему, неподалеку от Барнета; не помню, как назывался тот лес, но был он тогда крайне живописен и безлюден, если учитывать близость города.
Мы лежали на траве и целовались. Смейтесь, смейтесь. Да, всего лишь лежали и целовались. Сейчас вы, молодежь, делитесь друг с другом своими телами, забавляетесь ими, отдаетесь целиком, а нам это было недоступно. Но знайте: при этом вы жертвуете тайнами драгоценной робости. Вымирают не только редкие виды животных, но и редкие виды чувств. Мудрец не станет презирать людей прошлого за то, что те многого не умели; он станет презирать себя, ибо не умеет того, что умели они.
В тот день Лилия призналась, что хочет выйти за меня. Без оглашения — а если придется, и без согласия родителей, так что на сей раз, когда я отправлюсь на войну, наша плоть будет едина, как и — осмелюсь ли произнести «души»? — ну, по крайней мере, помыслы. Я жаждал спать с ней, войти в нее. Но подлая ложь разделяла нас, будто меч — Тристана и Изольду. И вот среди цветов, среди невинных птиц и дерев мне пришлось изображать благородство. Как мог я отвергнуть ее просьбу, если не посредством уверений, что в предвидении возможной смерти не смею принять этот дар? Она запротестовала. Разрыдалась. Мой лепет, жалкие резоны виделись ей в гораздо более выгодном свете, чем того заслуживали. Вечером, на опушке, с такими торжественностью и чистотой, с таким предельным самозабвением, какие я не могу вам описать, ибо клятвы, что не требуют клятв в ответ, также принадлежат к сонму вымерших чудес, она сказала: