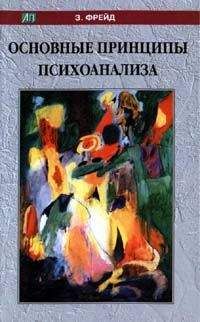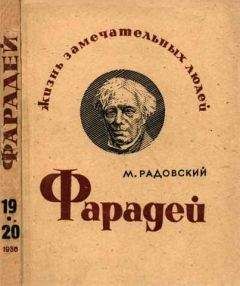Моисей Кульбак - Зелменяне
Особенно отличилась Соня дяди Зиши — вся в своего великого отца, она пошла по тернистому пути обмороков и выискивания в себе еще не обнаруженных болезней.
Снова о Соне дяди Зиши
После смерти дяди Зиши Соня стала чаще полеживать в кровати. Павел Ольшевский, этот преданный муж, посылал ей из Наркомзема, где он работал, врачей на дом.
Во дворе считали, что она болеет из женского кокетства и, быть может, от хорошей жизни, поэтому смотрели на это одобрительно.
Но со временем она дала всем понять, как когда-то ее отец, что она болезненная и что это у нее не пройдет. Она заявила о том, что у нее жаба, и стала падать в обмороки.
В ее обмороках была особая прелесть, тихая, за душу хватающая грусть. У Павла Ольшевского это всегда вызывало такое чувство, что вот-вот он потеряет свою жену. Поэтому, думают, она и падала в обморок главным образом у него на глазах, что, с другой стороны, вызывало сомнение в истинности ее болезней.
Дядя Ича, хотя ему хватало своих забот, всегда, после того как узнавал об очередном ее обмороке, ходил по двору и пожимал плечами:
— И выдумает же человек!
Соня дяди Зиши работает в Наркомфине. По правде говоря, там, в учреждении, не слишком верят в то, что ее жаба должна отнимать столько рабочих дней. Кстати, Соня дяди Зиши, убедив самое себя, еще не убедила врачей в своей странной болезни.
Такое отношение врачей, в свою очередь, стоит ей много здоровья, но она все же надеется когда-нибудь встретить на своем тернистом пути такого профессора, который ее поймет и установит наконец, что у нее жаба.
Пока понимает ее один только муж.
Павлюк со временем приноровился к тому, как ее лечить: он лечит ее психологией.
Когда с ней приключается эта беда, он не дает лить на нее воду — Соня этого не любит. Он укутывает ее в одеяло, дает ей нюхать из пузырька и шепчет ей на ушко ласковые слова, покуда она не приходит в себя.
Вот тогда лишь болезнь начинает становиться занятной.
Соня открывает, как бы со сна, свои большие, томные глаза, и вдруг то ли от радости, что она жива, то ли просто из благодарности к Павлюку, этому редкому мужу, она обнимает его голову своими удивительными руками, и они оба застывают в самозабвенном поцелуе, который длится бесконечно.
Ясно, что постороннему человеку при этом делать нечего. Он принимается разглядывать стену, он закуривает папиросу и в конце концов в большом замешательстве выскакивает на улицу.
И тогда этот посторонний человек дает себе клятву, что покуда будет жив, не переступит порог дома, где сидят муж и жена, заподозренные в том, что любят друг друга.
Однажды дядя Ича присутствовал при исходе такого обморока, и ему сделалось так тошно, что потом целую неделю он не мог ничего взять в рот.
Между прочим, в реб-зелменовском дворе втихомолку рассказывают, что в тот раз, у Сони в доме, дяде пришлось выдержать ожесточенную борьбу. После Сониного знаменитого обморока Зелменовы вдруг набросились на него: почему он не идет на фабрику?
С чего бы это они?
В реб-зелменовском дворе такого рода ссоры возникают неожиданно, этакая внутренняя завируха.
Дядя Ича сопротивлялся, конечно, всеми силами. Он дрался, как лев. Под конец он в бешенстве плюнул и удрал.
Последний портной
Все же однажды зимним вечером упрямство дяди Ичи было в конце концов сломлено, и он понемногу стал привыкать к мысли, что должен пойти на фабрику.
В небольшой теплой квартире сидели все — и Тонька, и Фалк, и Бера, и тетя Малкеле.
На дворе трещал мороз. Надвинувшиеся груды снега, как бы застывшие перед прыжком, светили в окна своей тусклой, безжизненной голубизной.
Все сидели за столом, распивали горячий чаек и твердили:
— Стань рабочим, глупый человек!
— Хватит, дядя, этой кустарной психологии!
— Довольно халтурить!
— Ослы, — сказал он, — разве вы не видите, что все это сплошной обман и мошенство? Я старше вас и не видел швейных фабрик.
— А в Америке? — тут же уличил его в невежестве Фалк.
— Ты был в Америке? Дурак, что ты знаешь об Америке?
— Зачем нам Америка? — говорит Тонька. — Сходите и посмотрите: если нет фабрики, вы вернетесь назад.
— Нечего мне смотреть, — произнес дядя с зелменовским упрямством.
— Ты что, умнее всех? — осторожно вмешалась тетя Малкеле.
Дядя Ича сидел бледный. С тех пор как здесь, во дворе, взялись за него, он перестал сыпать поговорками и упрямо принялся молчать, переживая в душе за благородное портняжное дело, которое с каждым днем сходит на нет. Он блуждал взглядом по комнате, ждал от кого-нибудь состраданий, но видел лишь черную железную трубу швейной фабрики, той самой, которая должна его «вобрать в себя и переварить».
— Кому помешало бы, — сказал он, — если бы где-нибудь завалялся один старый портной?
И бросил последний умоляющий взгляд на тетю Малкеле. Та молчала. Значит, и тетя Малкеле его предала.
— Не будь умнее всех на свете! — сказала она.
Он поднялся с мрачным лицом, молча принес утюг, тяжелые портновские ножницы, достал все наперстки из жилетных карманов и выложил на стол:
— Нате, разбойники!
И повернулся к жене с увлажненными глазами:
— Видишь ли, Малкеле, от тебя я этого не ожидал!
Дядя стиснул челюсти и замолчал. От него вдруг повеяло жуткой тишиной зимней степи. Есть предположение, что эту манеру молчать покойный реб Зелмеле привез с собой оттуда, откуда-то из «глубин Расеи».
* * *В небе, возле фабричной трубы, сверкала золотая звезда.
Чуть свет дядя Ича встал и пошел на фабрику. Там уже все было готово. Его поставили к конвейеру — вытаскивать наметку из поступающих частей пальто. Дядя Ича надел очки. Он весь день слюнявил пальцы, тянул нитки и с глубоким презрением смотрел поверх очков вокруг себя.
Цех тянулся на целую версту. Прожекторы бросали свет даже под столы, и какая-нибудь иголка на полу видна была так отчетливо, как будто она лежала на ладони.
Где-то в углу шел пар от тяжелых паровых утюгов, рабочие с засученными рукавами приводили в движение эти горячие наковальни, которые отдавали запахом распаренного сукна.
Дядя Ича сразу стал принюхиваться к утюгам. Запах этот был ему хорошо знаком. Родной, портняжный запах.
Все остальное казалось ему здесь чужим.
Отдельные части пальто плыли по конвейеру от одного места к другому, и, должно быть, где-нибудь из этих кусков склеивалась одежда, но дядя никак не мог за этим углядеть. Он подозрительно смотрел на сотни скользящих рук с длинными, костлявыми пальцами и квадратными, портновскими ногтями; подстерегал их, эти хитрые, чужие руки, как подстерегают вора: «Не морочат ли здесь доверчивого человека?»
Дядя Ича исследовал этот вопрос. К концу дня унес с собой домой твердое убеждение, состоящее почти из сплошных вопросов:
— И это называется фабрика? И это вот мастера? Разве так обметывают полу?
Потом он сидел против тети Малкеле темнее ночи, с бесконечными сомнениями и неясными мыслями. Он чувствовал себя так, как будто весь день находился в опасности и сейчас должен благодарить Бога за то, что уцелел.
Одно было ему ясно — что он, Ича-портной, очень низко пал на старости лет. Сегодня он из какой-то машинной щели восемь часов подряд вытягивал наметку. Во-первых, он ведь не для того в поте лица трудился всю свою жизнь, чтобы вытягивать наметку; во-вторых, у него вообще не укладывается в голове, чтобы от такого шитья что-нибудь путное могло получиться.
Тетя Малкеле за него просто испугалась, потому что он не переставал жаловаться, вздыхать и проклинать весь свет.
Она разговаривала с ним мягко, вкрадчиво. Когда же она все-таки захотела из него что-нибудь вытянуть, он вдруг бешено раскричался:
— Дура! Какое там пальто? Его не видать!
— Почему?
— Потому… цепочка, холера ее возьми!
Надо было догадаться, что он имеет в виду конвейер, который тянется цепочкой, — холера его возьми! — выхватывает у всех из рук куски верхнего платья, тащит их, соединяет и делает из этого дамское пальто.
— Одежда любит фантазию! — строго заключил он.
Ах, кому это могло прийти в голову, что он, дядя Ича, тот самый, который так легко переваривал чужие огорчения, который мог, как мальчишка, подкрадываться к дяде Зише под окно, чтобы взглянуть на его нееврейского зятя, который с легкой душой вынимал чуть ли не каждый день Цапку дяди Юды из петли и, наконец, пошел к родному сыну на несостоявшуюся свадьбу лишь для того, чтобы промочить горло, — кому могло прийти в голову, что он, этот дядя Ича, поднимет такой шум, когда придется его самого встряхнуть немного и поставить на фабрику?
Творилось невесть что.
Перед сном дядя Ича опять кричал, что ему, видите ли, нужен будильник, не то он опоздает на работу.