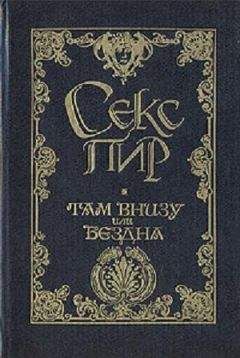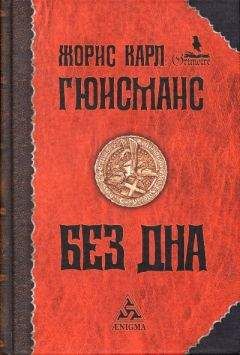Жорис-Карл Гюисманс - На пути
Он обращался к одной новоначальной, восхваляя для нее смиренно-высокую жизнь затворнических обителей.
— Не оглядывайся назад, — говорил он, — и не жалей ни о чем, ибо Сам Иисус моими устами повторяет тебе обетование, данное некогда Магдалине: «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее»[68]. Подумай, дочь моя, и о том, что отныне, отвлекшись от вечного ребячества суетных забот, ты исполнишь на этой земле истинно полезное дело, станешь творить наивысочайшее милосердие, искупишь чужие грехи, будешь молиться за немолящихся, поможешь по мере сил возместить ненависть мира сего к своему Спасителю.
Страдай и будь блаженна; люби Супруга своего и увидишь, как ласков Он к избранным Своим. Поверь мне: любовь Его такова, что Он не будет ждать от тебя очищения смертью, чтобы воздать сторицею за ничтожные скорби плоти твоей, за твои мелкие страдания. Еще до срока Он преисполнит тебя Своей благодати, и ты станешь молить Его о смертном часе: настолько радость сия будет превыше сил.
И, постепенно разжигаясь духом, старый монах вернулся к словам Христа Магдалине, показывая, что на ее примере Спаситель провидел превосходство молитвенных орденов над прочими; преподавал новой сестре краткие наставления, особенно указывая на необходимость смирения и нищеты, двух нерушимых стен монашеской жизни, по слову святой Клары. В конце слова он благословил ее, дал руку для поцелуя, а когда она вернулась на место, возвел очи горе и помолился Господу: да примет деву, приносящую себя как святую просфору за грехи мира, — потом встал и запел Te Deum.
Все тоже встали, и, выйдя следом за крестом и свещеносцами из храма, сгрудились во дворе.
Дюрталю показалось, будто из Парижа его перенесли куда-то прочь, в далекое прошлое.
Двор был окружен монастырскими постройками; напротив въездных ворот располагалась высокая стена с двустворчатой калиткой, по обе стороны от которой колыхались в воздухе шесть сосен, а из-за стены раздавалось пение.
У запертой калитки, впереди всех, одна, со свечой, понурив голову, стояла новоначальная. В нескольких шагах от нее застыл аббат, опершись на архипастырский посох.
Дюрталь вгляделся в их лица: малышка, в брачном наряде казавшаяся такой заурядной, стала очаровательна. Теперь ее фигура вытянулась и стала робко-грациозной; линии, чересчур выпиравшие из-под светского платья, сгладились; контуры под монашеским покровом остались едва намечены, словно она вновь стала ребенком, в котором лишь угадывается набросок девических форм.
Чтобы лучше ее разглядеть, Дюрталь подошел поближе: он хотел бы обвести взглядом и лицо, но под ледяным саваном монашеского чепца оно оставалось немым, словно отшедшим из жизни — очи закрыты, живет лишь улыбка блаженных уст.
Монах, в капелле казавшийся тяжеловесным и краснолицым, вблизи тоже выглядел иначе: сложенья он был вправду крепкого, цвет лица и вправду пламенный, но глаза, голубые, словно родник, пробившийся из-под мелового склона, словно вода без отблесков и ряби, невыразимо чистые глаза совершенно меняли простонародное лицо, и теперь аббат был уже никак не похож на виноградаря, как издали.
Да, ничего не скажешь, подумал Дюрталь, во всех этих людях жива душа, и лица их вылеплены душою. В их глазах и губах, в тех единственных отверстиях, через которые душа выглядывает из тела и сама, подойдя поближе, становится едва ли не телесно видима, живет святая ясность.
Вдруг пение за стеной разом смолкло; малышка сделала шаг вперед, постучала кончиками пальцев в калитку и срывающимся голоском пропела:
— Aperte mihiportas Justitiae: Ingressa in eos confitebor Domino[69].
И отворилась калитка. Стал виден другой большой двор, посыпанный речной галькой, с корпусом келий в глубине, и все сестры, выстроившись полукругом, возгласили:
— Haec porta Domini: Justi intrabunt in earn[70].
Новенькая еще на шаг подошла к порогу, и вновь раздался ее еле слышный голос:
— Ingrediar in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei[71].
А бесстрастный хор инокинь отвечал:
— Haec est domus Domini, firmiter aedificata: Bene fundata est supra firmam petram[72].
Дюрталь поспешно глянул на эти лица, увидеть которые можно было только в течение нескольких минут по случаю подобной церемонии. Перед ним стоял ряд мертвых в черных саванах; все без кровинки, у всех алебастровые щеки, синеватые веки и посеревшие губы; у всех изможденные, в тонкую струнку вытянутые лишениями и молитвами голоса, и почти все, даже молодые, сгорблены. «О, жестоко истомлены эти несчастные тела!» — воскликнул про себя Дюрталь.
Но ему не пришлось долго размышлять: Христова невеста, преклонив колени на пороге, обернулась к дому Этьену и спела совсем уже тихонько:
— Haec requiem mea in saeculum saeculi: Hie habitando quoniam elegi earn.[73]
Монах, сняв митру и отложив посох, сказал:
— Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis[74].
А новопостриженная прошептала:
— A templo sanctum tuum quod est in Jerusalem[75].
После чего аббат, по-прежнему без митры и посоха, помолился Всемогущему Богу да излиет росу благословения Своего на рабу Свою, а затем указал на девушку одной из монахинь, выступившей из полукруга сестер и подошедшей к порогу, говоря ей:
— Предаем в ваши руки, сударыня, новую невесту Господню. Сохраните ее в святой решимости, которую сей только час она подтвердила клятвой, испросив у Бога принесения себя в жертву во имя Господа нашего Иисуса Христа, приносимого на жертвенниках наших. Не оставьте ее на путях священных обетов, в соблюдении заповедей Святого Евангелия и правил иноческой жизни. Приготовьте ее к вечному союзу, куда призывает ее Божественный Жених, дабы в сем благополучном прибавлении вверенного попечению вашему стада обрести новый источник материнской заботы. Мир Господень да будет с вами!
Вот и все: монахини повернулись и друг за другом скрылись за стеной, а за ними, как собачка, которая, понурив голову, плетется поодаль за новым хозяином, прошла маленькая постриженица.
Калитка затворилась.
Дюрталь ошеломленно глядел на силуэт епископа в белом, на спины священства, направившегося в церковь служить вечерню; за ними, уткнувшись плачущими лицами в платочки, шли мать и сестра новопостриженной.
— Что скажете? — спросил аббат, взяв Дюрталя под руку.
— Что ж, вне всякого сомнения, невозможно увидеть более волнующую имитацию погребения, чем эта сцена; девушка, заживо погребающая себя в самой страшной из могил — ибо в ней страждет плоть, — изумительна!
Я припоминаю то, что вы же мне рассказывали о строгости этого ордена, и содрогаюсь при мысли о непрерывном поклонении Дарам, о том, как зимней ночью девочку, подобную этой, будят, едва она сомкнет глаза, и оставляют во мгле часовни, где она должна молиться в одиночестве, в ледяной тьме, на холодных плитах, и не терять сознания от страха и слабости.
Что происходит на этом свидании с неведомым, наедине со мраком? Сможет ли она уйти от себя, бежать от земли, встретить на пороге вечности непостижимого Супруга, или ее душа, не осилив взлет, так и останется прикованной к дольнему?
Так ясно можно представить ее себе: фигура устремлена вперед, руки сложены; она взывает сама к себе, сосредотачивается в своей глубине, собирается, чтобы верней растаять; и точно так же воображаешь ее больной, обессилевшей — тело дрожит от холода, чтобы воспламенить душу. Но кто знает: иными ночами удается ли это ей?
О, эти скудные живые ночники, бдящие с почти иссякшим маслом, с почти угасшими огоньками, трепещущими во мраке храма, — что творит с ними Бог?
Кроме того, на пострижении была же еще и семья, и если о дочери я думаю с восторгом, то о матери поневоле не могу не пожалеть. Представьте только себе: если бы дочь умирала, она бы обняла мать, может быть, говорила бы с ней, а если бы и не узнавала, то хотя бы не по своей воле, а здесь при ней умерло не тело, а душа дочери. Та не узнает ее — не узнает нарочно; родственная любовь разрешилась в отчуждение. Согласитесь, для матери это уж слишком!
— Соглашусь, но если даже забыть о Божьем призвании, эта якобы неблагодарность, родившаяся в результате Бог знает каких душевных схваток, — не что иное, как более справедливое распределение людской любви. Подумайте о том, что эта избранная служит козлом отпущения за наши грехи; подобно злосчастной Данаиде,{45} она будет изливать неистощимую жертву своих скорбей и молитв, бдений и постов в бездонную урну прегрешений и преступлений. О, знали бы вы только, чего это стоит — принимать на себя грехи мира! Вот, кстати, я припоминаю, как говорила мне аббатиса бенедиктинок с улицы Турнефор: за то, что слезы наши не довольно святы, что души еще не довольно очистились, Бог испытывает нас в телах наших. Здесь случаются продолжительные болезни, не знающие исцеления; болезни, которые никак не могут понять доктора: мы терпим их за других, и со многими бывает так.