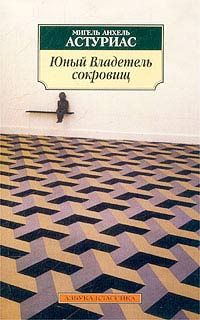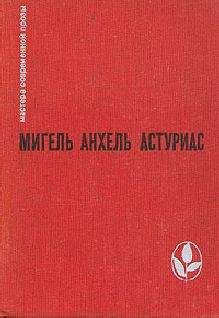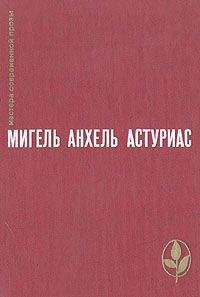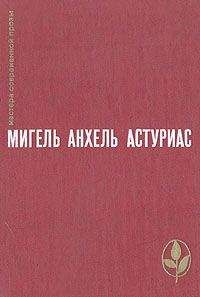Юный владетель сокровищ - Астуриас Мигель Анхель
— Медку не хочешь?
На двенадцать лиг в округе никто не говорил «ты». Нищенская лужа, кладбище без крестов, галерейка заброшенного дома, монеты, пираты…
Глядя на старика, он проглатывал мысли и, как бывало прежде, взял его за руку — не чтобы помочь, чтоб коснуться. Касаясь, он разгадывал, быть может, тайну своего детства. Да нет, что могла передать пальцам старчески хрупкая рука? Старик все держал платок, пропахший увядшими цветами, а к концу прогулки присаживался па камень, на пень, на что угодно и засыпал, хотя стояло утро; из-под утратившей форму фетровой шляпы свисали седые пряди, щеки ходили ходуном, словно и во сне он со вкусом сосал свой катышек, посох лежал между кривыми ногами, руки бессильно свисали.
Пробежавшись по лесу, мальчик заглядывал издали на галерейку, будто стремился захватить врага врасплох. На сей раз он упал ничком — здесь был не просто враг, здесь были злодеи — и пополз на локтях, на животе, на коленях… Лес, поднимайся! Деревья, на приступ! Он овладел галерейкой, полной злодеев, отважно разоружил их. Они бежали. Кто-то из них еще бился. Пиф! Паф!.. Все, победил. В седло! Тень коня летит среди веток. Мальчик мчится, падает на землю и возвращается на галерейку, наигравшийся, разочарованный, мокрый.
Почему же старик все спит? Почему не рассказывает? («Хочешь медку?») В его изношенном голосе есть что-то доброе, родное, мужское. Рыбаки говорили, что в Нищенскую лужу текут потаенные родники, а вытекает из нее подземная река, которая во время землетрясения выходит наверх грязевой змеею. Наверное, об этих змеях и толковали служанки. Проползла такая змея по старому дому, и пришел конец людям, зверям, деревьям, дорогам…
Осталась одна галерейка. Мальчик обернулся, чтобы повернее увидеть Нищенскую лужу. Он угадывал, а может — выдумывал, что случилось. Заброшенный кусок галерейки, никому не нужный, один. Темные комнаты, где обитают черви, пауки, скорпионы и восьмигранные бочонки, полные монет; лужа, которая, судя но слухам, прежде была озером; спящий старик, сказавший тебе «ты»…
Пальцы внезапно задрожали и сжались, не в силах переплестись и сцепиться. Он задохнулся на мгновение и даже утратил мысли, прежде чем рвануться к тайне, установить связь между здешним и прошлым, еще живым в этих землях, хотя о нем никто ничего не говорил.
Мальчик поднял голову. Истина и тайна: прошлое, ощутимое сквозь неощутимость, живущее в том, чего не коснешься, — в воздухе, которым ты дышишь, в воде, которую пьешь, в корнях огромных деревьев, в скелетах подводного кладбища, в глазах старика, кивавшего, словно мертвый, хотя он сладко спал.
Тело его забилось стаей перепелок, затрепетало под рубахой. Реки щекотки хлынули на него, тайные реки, питавшие его тайну, великую догадку.
Он то ли сидел, то ли стоял на галерейке недвижно, как всегда, прислонившись спиной к стене или к подпорке.
После полудня на галерейке расположилось бродячее семейство. Белая девочка с длинными ресницами и волосами, зеленоватыми, словно плоды нанес <Нансе — кустарник со съедобными плодами>, окликнула его. чтобы поправить ворот рубахи. Назвала по имени — знала, как его зовут. Домашние хлопоты бродячих семей, остающихся тут лишь на ночь, не требуют времени, — бросят на пол пеструю простынку, чтобы старики поспали, а сами лежат или сидят, толкуя о чем попало. Женщины разведут огонь, согреют лепешек и кофе, дети им помогают.
Он дал этой девочке оправить на себе рубаху. Потом она погладила его по спине, притянула поближе и, склонясь, коснулась щекой его лба. Радость теплом разлилась по телу. Он опустил глаза и едва внятно пробормотал что-то вроде «спасибо». Она же, одарив его лаской, взяла за руку, повела, и, наугад находя дорогу, они оказались в чаще, далеко от галерейки.
— Ух, Ильдефонса мальчишку ведет!
Они обернулись вместе, заслышав голос невысокого мужчины, почти утонувшего в просторной кожаной блузе. На голове у него красовалась широкополая шляпа, на руке болтался хлыст, изо рта торчала сигара.
Девочка сжалась и угасла, словно нежность ее окатили холодной водой. Отпустила его руку, то ли смеясь, то ли плача, и ресницы ее коснулись бледных щек.
На галерейку вернулись втроем.
Бродячая семья переждала дневную жару и отправилась дальше. Догорели поленья, на кирпичах пола пенилась слюна выкипевшего кофе, по золе провели борозду твердые ногти маисовых лепешек, воздух попахивал копченым мясом. И все-таки галерейка не изменилась. Он оглядел ее — да, все та же. Почему он им не сказал, кто тут хозяин? Надо бы крикнуть теперь, хотя они далеко, в тростниковых зарослях.
Ильдефонса, мужчина в кожаной блузе, тощие псы, еще люди…
Только псы и заметили… что же заметили псы? Силком, таща за поводок-веревку, втащили их сюда, к нему, псы упирались. Они впивались в землю копями передних лап, шерсть на спине вставала дыбом, когда собак привязали к подпоркам, они никак не могли угомониться.
Они-то понял и, что творится втайне здесь, на узкой галерейке, открытой с одной стороны лесу и небу, затянутому облаками. Собаки не выли, но скалили зубы, содрогаясь от страха.
Да, здесь был сам Владетель сокровищ — тот, чье имя иногда решались произнести рыбаки, местные люди. Владетель.
Он отвел глаза, чтобы больше не видеть чужих, но все же видел псов, едва не сваливших подпоры его обветшалого дома. Белое облачко, словно дым, пропитало его плоть. Пахло плодами нанес. Он ушел с галерейки. Ему хотелось биться, кричать, только бы избавиться от безумной, которая украла его, взяв за руку. Девочка, словно пес, поняла, что здесь — Владетель сокровищ, вот и увела поискать в лесу, как бы спастись от тайны; нет ли где дверей, в которые беглецы входят лишь раз, окон, которых самоубийцы едва касаются, бросаясь вниз и улетая, будто ангелы. Она увела его, играя, чтобы спастись, не увидеть Владетеля сокровищ.
Ильдефонса. Так ее звали. Ее водили по дорогам, чтобы излечить от безумия. Семьи, в которых есть сумасшедший, становятся кочевыми. Медленно, шаг за шагом, он обошел галерейку. Ничего не изменилось. Поверхности, линии, расстояния, миры, вещества, чистейший свет, летящие понизу мухи, звук шагов по плитам. Ильдефонса. Он не колеблясь отдал бы за нее все присыпанные пеплом монеты. Да ведь не продадут, не променяют на монету-другую, если ведут вперед и вперед, тащат вместе с псами; юбки ее свиваются жгутом, светлые волосы льются по спине и по гладким плечам, ноги — белым-белы.
Сахарный тростник. Сладчайший сок смешан со слюной и с кровью, ибо ты поранил десны о режущую флейту твердой лиловой кожуры. Дивный вкус тростника отгонял мрачные мысли. Сперва он разгрызал кожуру, впивался в нее зубами, приникал к тростниковой сердцевине губами, щеками, носом подбородком и кусал, пока не отгрызал кусочек, а уж кусочек этот перетирал зубами, выжимая из него последнюю каплю меда. Жадный до сладкого, он оставлял несчастной кожурке только жажду. Последние капли были самые вкусные, потому что прятались долго, давались не сразу. Измазанный медом до ушей, он медленно отмахивал мух. Галерейка, стена, а за нею… Посейчас он стоял на галерейке, жевал стебель тростника и ни о чем не думал.
Наглый голубь гонял голубок. Сизые перья, розовый клюв… Тут поиграет в любовь, там поиграет… Голубки испуганно и жеманно спасались от него, взлетали, ворковали. Из пруда, откуда пил скот и где плавали утки, вода разливалась вокруг, и те, кто вез мясо, зелень, рыбу, птицу, дрова и уголь для кухни, медлили, не решаясь пересечь мокрое пространство. Небольшие стада коров, дававших молоко для дома, и целые семьи свиней плескались в затопленном патио, окруженном галереей и большом, как площадь. Площадь с одним входом.
Знатные мужи при шпорах, в высоких сапогах, широкополых шляпах с пестрой тульей и шейных платках исчезали в проеме двери, охраняемой Христом, который сидел на скамье без хитона, в терновом венце и держал израненной рукой тростниковый посох. По утрам у статуи кто-то ставил свечу — должно быть, благочестивая служанка; и золотая капля теплилась целые сутки перед осмеянным царем.