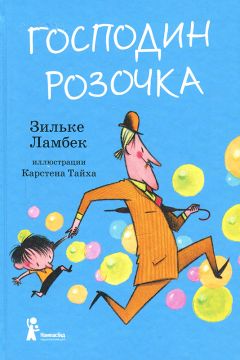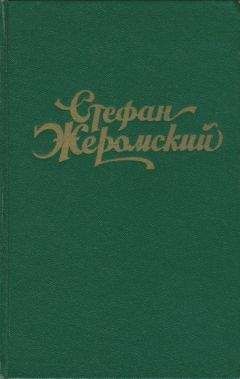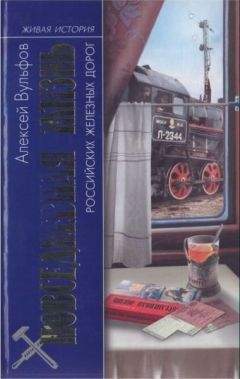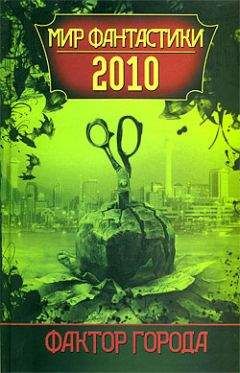Стефан Жеромский - Луч
Радусский уступил свое место тучному соседу, а сам протиснулся к печке и через плечи склонившихся мужчин стал смотреть, что там делается. Компания была увлечена своеобразной азартной игрой. Высокий худощавый парень с физиономией уголовника держал в руке длинный, тонкий и узкий кожаный ремешок. На виду у всех он складывал ремешок пополам и скатывал его от середины к концам. Когда весь ремень превращался в ровный кружок, он клал его на скамью и предлагал желающим попасть тонкой проволокой в центр.
— Ты ставишь рубль на кон, я ставлю рубль на кон — и игра идет, — говорил он с такой плутовской интонацией, что Радусский невольно улыбнулся. — Вот я беру ремешок за концы, видишь? Теперь начинаю раскручивать, видишь? Останется проволока в петле, когда я раскручу ремешок, — рублевка твоя, проскочит мимо — рублевка моя. Понятно?
Проволока редко когда оставалась между половинками ремешка, а больше «проскакивала мимо». Время от времени, когда игрок, взбешенный потерей нескольких «рублевок», начинал догадываться о мошенничестве, она все же попадала в центр, и число желающих попытать счастья увеличивалось. Сторонник Радусского горящими глазами следил за игрой, наклоняя голову то к правому плечу, то к левому; наконец, когда последний из игроков стал шарить по карманам в поисках денег и ни в одном ничего не нашел, человек в картузе крикнул:
— Ставлю двугривенный!
— Играем, — ответил обладатель ремешка, подняв к потолку белесые глаза. Оказалось, что новый игрок попал в середину и выиграл двадцать копеек. Он тут же поставил оба двугривенных и опять выиграл. Затем поставил один двугривенный — и снова победил.
Его удачу приветствовал сдержанный ободрительный гул. Сверкающие глаза жадно следили за движением пальцев и проволоки; разинув рты и тяжело дыша, зрители, казалось, готовы были сами подтолкнуть эти пальцы. Бойкий мастеровой выиграл еще несколько раз, но неожиданно счастье изменило ему. Посчитав это случайным промахом, он стал горячиться, делал все более крупные ставки и проигрывал раз за разом. Смех, раздававшийся кругом, выводил его из себя, и он играл с еще большим азартом. Пот градом катился у него по лбу.
Радусский, склонившись над скамьей, с любопытством смотрел на игроков, следя за выражением их лиц. Свисток паровоза прервал его наблюдения.
— Морисов… — произнес кто‑то лениво.
Поезд остановился, и значительная часть пассажиров высадилась. В открытые двери клубами валил холодный воздух, и девочки, к которым Радусский вернулся, почувствовали себя лучше. У старшей все еще были желтые щеки и мутные глаза, поэтому пан Ян, попросив разрешения у дамы в салопе, вывел страдалицу на перлон и немного прошелся с нею. Вокруг маленькой станции чернел сосновый лес. Вороны с криком перелетали с дерева на дерево; в лесу раздавался стук топора. Железнодорожные рельсы, как бы выбегая из‑под паровоза, сперва уходили прямо вперед, потом описывали небольшую дугу и исчезали среди деревьев.
— Мы поедем туда… — тихо проговорил Радусский, обращаясь к девочке, а на самом деле чувствуя, что он сам горит желанием немедленно, сейчас же увидеть, что же скрывается там, за лесом. Вскоре прозвенел второй звонок. Надо было возвращаться в вагон. Теперь тут было просторнее, но несколько человек еще стояли в проходе, и Радусскому снова пришлось отвоевывать место своей приятельнице. В это время в дверях показался большой узел, увязанный в клетчатый платок, а за ним старушка, которая вталкивала его в вагон. Г олова ее была плотно закутана в несколько платков, из которых выглядывало морщинистое лицо с выдавшейся нижней губой и редкими зубами. Следом за ней шла еще одна женщина, тоже в годах, худая и так же тщательно закутанная. Как только старушка дотащила узел до дверей, она тут же, ни к кому в частности не обращаясь, заговорила весьма торжественно, словно давала показания на суде.
— Едем это мы, — восклицала она, громко шлепая губами, — едем это мы с пани Писаркевич домой, и пошли у нас тары — бары… А тут станция. Пани Писаркевич говорит: Палениско. Да, да, это вы первая сказали!.. Ну, раз Палениско, мы за узлы и шасть из вагона. Идем в город, в Палениско, значит, а его нет как нет. Стоит какой‑то дом чудной, хлев при нем, а дальше один лес дремучий. «Господи Иисусе! — закричала я первая. — Что же это такое?» Стоим это мы, друг на дружку глядим, а наш поезд пых — пых — пых — пых… и укатил! Вчера это было, около полуночи. Пресвятая Домицела, говорим мы с пани Писаркевич, так это мы, видать, не в Палениско сошли… Сундучки наши, один мужнин, другой пани Писаркевич, нам велели в Сапах сдать в багаж. Что же нам теперь делать, люди добрые?
— Раньше надо было глядеть, — проворчал кто‑то из угла. — Огреет муж кочергой по спине, и вся недолга.
Пани Писаркевич бросила взгляд в ту сторону, откуда раздавался голос, а старушка перестала говорить, но нижняя губа ее все еще быстро двигалась, точно внезапно отпущенная пружина.
— Мы к начальнику, — снова начала она, как только представилась возможность, — говорим ему: так, мол, и так, допытываемся, упрашиваем, — он хоть бы что. Развел руками, ждите, говорит, до завтра, до полудня, только билеты ваши, говорит, пропали, а с вещами, говорит, ничего не случится. С вещами ничего не случится, а муж‑то небось приехал встречать, кобылку у Зелинского выпросил, ведь до кузницы нашей девять, да, не то восемь, не то девять верст… Обомлели мы с пани Писаркевич. У нас обеих и сорока грошей не наберется, а он: покупайте новые билеты, да еще ночевать где‑то надо. Ну, не горе ли…
— Да будет уж вам, все равно муженек взгреет. Дело ясное…
Старушка смутилась и замолчала. Слабый румянец окрасил ее морщинистые щеки. Вскоре, однако, она оправилась от смущения и опять пустилась рассказывать, правда, уже потише и обращаясь только к ближайшим соседям.
— Купили мы у буфетчиков две кружки чаю и по маленькой булочке. Накрошили булочки в чай, вот и весь ужин, а выложили мы за него восемнадцать грошей. Спать нам дежурный велел на вокзале, вместе с мужиками. Так и пролежали мы на деревянных лавках, с узлами в головах. Всю ночь только охали да ахали. Теперь вот влезли в вагон, а что с нами будет, не знаю. Возьмут да и выбросят… Мы без билетов едем! — выкрикнула она внезапно с такой отчаянной решимостью, точно сознавалась в убийстве.
Какой‑то пассажир подвинулся немного и освободил ей место. Благодарно поклонившись, старушка немедля уселась, положила узел на колени и крепко обхватила его обеими руками. Это обстоятельство снова остановило поток ее красноречия. Только губы у нее все еще беззвучно шевелились. Время от времени она начинала бессвязно бормотать:
— И не придумаю, что с нами теперь будет… — и тотчас опять умолкала.
От вагонной качки и духоты старушка, успокоившись, стала задремывать. Глаза у нее все чаще смыкались, все реже шевелились губы, голова качалась из стороны в сторону. Ее товарка по несчастью, пани Писаркевич, стояла неподалеку в группе оживленно беседовавших мужчин и, плотно сжав губы, в мрачном молчании не отводила глаз от окна. Когда разговорчивая старушка так крепко заснула, что нижняя губа у нее бессильно отвисла, Радусский вступил в тайные переговоры со старшей девочкой, той самой, которую он в Морисове водил погулять по перрону. Девочка бросала вопросительные взгляды то на свою опекуншу, то на Радусского и на женщину, спавшую рядом, то на свою пра вую руку, в которой она что‑то держала. Лицо ее то краснело, то бледнело, широко раскрытые глаза выражали сильное волнение. Наконец, девочка как будто успокоилась. Соскользнув на пол, она украдкой подобралась к спящей и, став боком к ней, незаметным движением сунула ей в руки трехрублевую бумажку. Она проделала это так ловко, что никто ничего не заметил, а старушка продолжала крепко спать, сладко похрапывая и посвистывая носом. Тесно прижавшись друг к дружке, сестры теперь не сводили глаз со спящей, следя за каждым ее движением, за каждым ее вздохом. Время от времени одной из них казалось, что бабушка уже проснулась, и она начинала ерзать от нетерпения. Тогда другая предостерегающе поднимала брови и бросала на нее многозначительный взгляд…
Радусский потихоньку вышел из вагона на площадку, облокотился на толстую железную перекладину и стал смотреть на проносившийся мимо пейзаж. Кругом простиралась открытая равнина. На полях лежал глубокий, но уже грязный и осевший снег. Насколько хватает глаз, тянулись сугробы, наметенные зимними вьюгами, снаружи еще скованные льдистой коркой, но уже рыхлые от оттепели, и омрачали ландшафт однообразием своих очертаний. Кое — где уже выступали гребни пашен, с осени поднятых плугом. Буйные февральские ветры не только обнажили их, но и сдули верхний слой песка. Повсюду на снежном покрове виднелись изжелта — бурые пятна и полосы, подобные ржавым остриям гигантских копий, и думалось, не сражались ли и впрямь здесь в зимние ночи великаны, воздушные духи, увлеченные вихрем. На далеком горизонте, сером — сером, без проблеска лазури, маячили еле различимые в тумане тополи, похожие на растрепанные перья; длинные вереницы их убегали куда‑то на край света. Поближе виднелись кое — где березовые рощицы и одинокие полузасохшие груши.