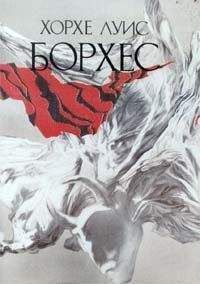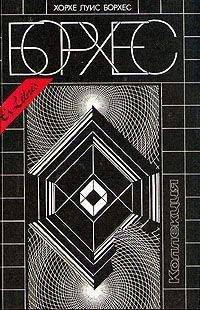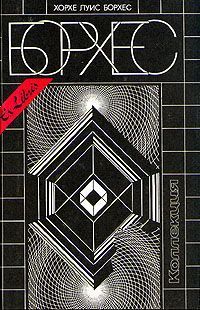Хорхе Борхес - Тайнопись
Без названия
Монета орломСпишь. И опять просыпаешься мной.
Позднее утро стирает иллюзию обновленья.
Не припомнишь Вергилия? Вот они, эти строки.
Все встает по местам.
Воздух, земля, вода и огонь — четыре стихии греков.
Имя единственной женщины в мире.
Дружелюбье луны.
Свежие краски атласов.
Очистительное забвенье.
Память, которая черкает и перебеляет.
Привычки, этот залог уверенности в бессмертье.
Стрелки и циферблат, делящие неуследимое время.
Тончайший запах сандала.
Сомненья, которые не без спеси зовем метафизикой.
Выгиб трости, ныряющий в руку.
Вкус винограда и меда.
Прервать чей-то сон —
обычный поступок любого,
чудовищный, если подумать.
Прервать чей-то сон
значит втолкнуть уснувшего в беспредельный
каземат мирозданья
со всем его временем без начала и без конца.
Значит напомнить ему,
что он всего лишь общедоступное имя
и сумма прожитых дней.
Всколыхнуть его вечность.
Обременить созвездьями и веками.
Восставить нового Лазаря,
дав ему память о прежнем.
Замутить летейские воды.
Сон
Ночь поручает спящим колдовское
заданье — распустить весь этот мир,
его бесчисленные разветвленья
причин и следствий, тонущих в бездонном
круговороте мчащихся времен.
Ночь хочет, чтобы за ночь ты забыл
себя, происхождение и предков,
любое слово, каждую слезу,
все, чем могло бы обернуться бденье,
немыслимую точку геометров,
прямую, плоскость, пирамиду, куб,
цилиндр и сферу, океан и волны,
подушку под щекою, тонкость свежих простынь…
империи, их цезарей, Шекспира
И — самый тяжкий труд — свою любовь
Как странно: этот розовый кружок
стирает космос, воздвигая хаос.
Забытый сон
Вивиане Агиляр
Неверным утром мне приснился сон.
Изо всего, что видел, помню двери,
а остальное стерлось. Новый день
вобрал в себя и схоронил навеки
какое-то известие, теперь
недосягаемое, словно призрак
слепца Тиресия, халдейский Ур
и лабиринты теорем Спинозы.
Я прожил долгий век свой, разбирая
учения философов земли.
Известно мненье одного ирландца,
что Бог, чей разум никогда не спит,
хранит в себе любое сновиденье,
и каждый сад, и всякую слезу.
Неверный день, и полутьма повсюду.
Пойми я, что осталось ото сна,
который снился мне, и что в нем снилось
и я бы понял все.
Мчать или быть?
Где Рейн — за облаками? Вездесущий
прообраз Рейна, чистый архетип,
вне времени — совсем другого Рейна —
векующий и длящий вечный миг,
рождая Рейн, что по немецким рощам
бежит, пока диктую этот стих?
Так поколениям внушал Платон,
которого оспорил Уильям Оккам.
Он бы сказал, что Рейн (происходящий
от слова "rinan", то бишь "мчать") — всего лить
пустая кличка, данная людьми
стремнине вод, катящих век за веком
от снежных шапок до приморских дюн.
Что ж, может быть. Пускай они решают.
Кем стану я — еще раз повтореньем
лучистых дней и сумрачных ночей
с их радостями книг, любви и песен
и тяготами страхов и надежд?
Или другим, тем потаенным ликом,
чью смутную, растаявшую тень
сейчас пытал в нетерпеливых стеклах?
За гранью смерти, может быть, узнаем,
кто мы взаправду — слово или суть.
Праведники
Тот, кто возделывает свой сад, как завещал Вольтер.
Кто благодарит эту землю за музыку.
Кто счастлив, найдя этимологическое сродство.
Двое служащих в южном кафе за молчаливыми шахматами.
Гончар, заранее взвесивший цвет и форму.
Наборщик, бьющийся с этой неблагодарной страницей.
Пара, читающая заключительные терцины одной из песен.
Тот, кто гладит спящую кошку.
Кто искупает или пытается искупить причиненное зло.
Кто благодарит эту землю за Стивенсона.
Кто предпочтет правоту другого.
Вот кто, каждый — поодиночке, спасает мир.
Синто
Убитого горем
может спасти пустяк —
малейшее отвлечение
памяти или вниманья:
вкус плода, вкус простой воды,
лицо, возвращенное сном,
первый ноябрьский жасмин,
не знающий устали компас,
книга, с потерей которой уже смирился,
сердцебиенье гекзаметра,
маленький ключ от входной двери,
запах книг и сандала,
старое название переулка,
краски географической карты, —
блеснувшая этимология,
ровно обстриженный ноготь,
позабытая дата,
бой полночных курантов
или внезапная боль.
В культе синто — восемь миллионов богов,
тайком бродящих по миру.
Эти нехитрые божества осеняют нас.
Осенят — и растают.
Чужак
В святилище дремлет меч.
Я, один из священников храма, его никогда не видел.
Другие общины почитают бронзовые зеркала или камни.
Думаю, в давние годы их выбирали за редкость.
Говорю совершенно открыто: синтоизм — самый свободный из культов.
Самый свободный и самый древний.
У нас есть старинные письмена, которых уже не видно.
Исповедовать синтоизм могут даже олени и росы.
Он учит трудиться как должно, но не предписывает морали.
Не утверждает, что каждый ткет себе свою карму.
Не устрашает мукой и не подкупает наградой.
Его приверженцы вправе идти за Буддой или за Иисусом.
Он почитает Императора и умерших.
Верит, что человек после смерти становится богом и охраняет близких.
Верит, что дерево после смерти становится богом и охраняет деревья.
Верит, что соль, вода и музыка очищают.
Верит, что божества неисчислимы.
Утром нас посетил старый поэт, слепой перуанец.
Сидя на галерее, мы делили с ним ветер из сада, запах сырой земли и песнь пернатых божеств.
Через переводчика я толковал ему нашу веру.
Не берусь судить, что он понял.
Западные лица — как маски, по ним ничего не заметишь.
Он обещал, вернувшись в Перу, вспомнить нашу беседу в стихах.
Выполнил ли, не знаю.
Не знаю, сойдемся ли снова.
Тайнопись
Безмолвно — дружелюбная луна
(почти что по Вергилию) с тобою,
как в тот, исчезнувший во мгле времен,
вечерний миг, когда неверным зреньем
ты наконец нашел ее навек
в саду или дворе, истлевших прахом.
Навек? Я знаю, будет некий день
и чей-то голос мне откроет въяве:
"Ты больше не посмотришь на луну.
Исчерпана отпущенная сумма
секунд, отмеренных тебе судьбой.
Хоть в целом мире окна с этих пор открой.
Повсюду мрак. Ее не будет
Живем, то находя, то забывая
луну, счастливый амулет ночей.
Вглядись позорче. Каждый раз — последний
Примечания
1
Обитель