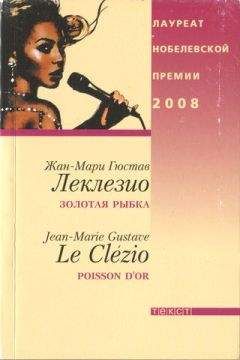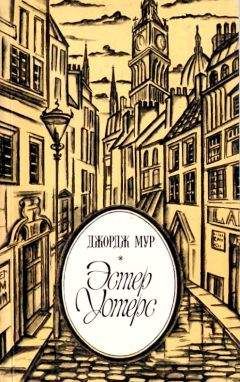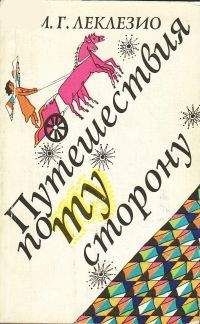Жан-Мари Гюстав Леклезио - Блуждающая звезда
Мадам О'Рурк была красавицей. Ее длинные платья и огромные шляпы не сочетались с серьезным лицом и всегда печальным выражением глаз. По-французски она изъяснялась чисто, без акцента, люди говорили, что она на самом деле итальянка. Говорили еще, что она-де шпионка карабинеров или беглая преступница. Это все больше молодые девушки судачили о ней шепотком. Так же они понижали голос, говоря о Рашели, которая тайком бегала на свидания к капитану карабинеров.
Из-за этих толков Тристан поначалу избегал своих сверстников. Он один гулял по деревне, а иногда уходил в поля, спускался по откосу к реке. Если там были другие дети, поворачивал назад и даже не оглядывался. Возможно, он побаивался их. И еще хотел показать, что ему никто не нужен.
Вечерами Эстер видела, как он вышагивает по площади, церемонно ведя под руку мать. Они шли рядом под платанами до края площади, где расположились карабинеры. Потом не спеша возвращались обратно. Люди редко заговаривали с мадам О'Рурк. Но со старым Генрихом Ферном она обменивалась парой слов, потому что он был музыкантом. Она никогда не стояла со всеми в очереди к гостинице «Терминал», и ее имя не отмечали галочкой в списке. Она не была еврейкой.
Прошло время, наступило лето. Все уже знали, что мадам О'Рурк не богата. Говорили даже, что у нее совсем нет денег, потому что она ходила к ювелирам и занимала у них под залог своих драгоценностей. Говорили, что и драгоценностей-то у нее почти не осталось, разве что несколько медальонов да ожерелье из слоновой кости — безделушки.
Тристан смотрел на мать так, будто никогда ее не видел. Ему хотелось вспомнить прежнее время, дом в Каннах, мимозы в послеполуденном свете, пение птиц за окнами, мамин голос и непременно — руки, игравшие «Затонувший собор», музыку, то яростную, то бесконечно грустную. Но эта картина расплывалась, терялась вдали.
Тристану не сиделось в гостиничном номере. Солнце опалило его лицо и руки, отросшие волосы посветлели. Его одежда обтрепалась и перепачкалась от беготни по густым зарослям. Однажды на дороге, там, где кончалась деревня, он подрался с Гаспарини — этот парень заигрывал с Эстер. Гаспарини был старше и сильнее, он зажал шею Тристана «в замок» и шипел с перекошенным от злобы лицом: «А ну-ка повторяй за мной: „Я придурок“! Повторяй!» Тристан сопротивлялся, пока в глазах не потемнело. В конце концов Гаспарини отпустил его, а ребятам сказал, что Тристан сдался.
С того дня все переменилось. Лето было в разгаре, дни длинные. Тристан уходил из гостиницы рано утром, когда мать еще спала в их тесной комнатушке. Возвращался он к обеду, голодный, с исцарапанными ногами. Мать ничего не говорила, но обо всем догадалась. Однажды, когда он уходил, она сказала каким-то странным голосом: «Знаешь, Тристан, эта девочка не для тебя». Он остановился: «Как, о чем ты? Какая девочка?» Но мать только повторила в ответ: «Она не для тебя, Тристан». Больше они никогда об этом не говорили.
С утра Тристан приходил на площадь в час, когда евреи собирались у гостиницы «Терминал». Мужчины и женщины ждали, выстроившись в очередь, чтобы отметиться в списке и получить продовольственные карточки.
Притаившись за деревьями, Тристан смотрел на Эстер и ее родителей, которые ждали вместе со всеми. Ему было немного стыдно, потому что им с матерью не приходилось стоять в этой очереди, — он чувствовал себя не таким, как все. Здесь, на площади, Эстер впервые на него посмотрела. То и дело припускал дождь. Женщины кутались в шали, раскрывали над собой большие черные зонты. Дети жались к ним, не бегали, не кричали. Прячась под платанами, Тристан высматривал Эстер где-то в середине очереди. Она стояла с непокрытой головой, капли дождя блестели на черных волосах. Мать она держала под руку, а отец рядом с ней казался очень высоким. Они не разговаривали. Никто не разговаривал, даже карабинеры, топтавшиеся у дверей ресторана.
Когда двери открывались, Тристан мельком видел большой светлый зал с высокими окнами, распахнутыми в сад. Карабинеры стояли у окон и курили. Один сидел за столом и отмечал имена в лежавшей перед ним амбарной книге. Тристану чудилось в этом что-то таинственное и жуткое, как будто люди, входившие в зал, могли и не вернуться. Окна гостиницы, смотревшие на площадь, были закрыты, гардины задернуты. Когда смеркалось, итальянцы запирали ставни и двери. Темная площадь казалась необитаемой. Выходить на улицу было запрещено.
Тристана влекла к гостинице тишина. Он бежал прочь из теплой комнаты, где тихонько дышала мать, где снились сны о музыке и садах, бежал, чтобы увидеть Эстер среди черных силуэтов, ожидавших на площади. Карабинеры записывали ее имя. Она входила с отцом и матерью в зал, и человек с амбарной книгой отмечал ее фамилию в списке вслед за другими. Тристану хотелось стоять с ней в этой очереди, вместе с ней подойти к столу. Он не мог спать в своей комнате в «Виктории», когда это происходило. Слишком оглушительной была тишина на площади. Слышался только плеск воды в фонтане да где-то вдалеке собачий лай.
Потом Эстер выходила. Она шла по площади чуть поодаль от матери и отца. Однажды, проходя мимо деревьев, она увидела Тристана, и в ее черных глазах полыхнуло пламя — то ли гнева, то ли презрения, яростное пламя, от которого неистово забилось сердце мальчика. Он отпрянул. Ему хотелось сказать: вы красивая, я думаю только о вас, я вас люблю. Но три силуэта уже спешили к переулкам.
Всходило солнце, жгучий свет пробивался сквозь облака в небе. По острой траве полей, по зарослям, исхлеставшим ноги, Тристан бежал прочь, вниз, к ледяному ручью. Воздух был полон ароматов, цветочной пыльцы и мошек.
* * *
Казалось, до этого года никогда не было лета. Солнце выжгло траву в полях, раскалило камни в горной речке, а горы маячили вдали, сливаясь с темной синью неба. Эстер часто ходила к реке, на дно ущелья, туда, где сливались два потока. В этом месте долина расширялась, и кольцо гор отступало еще дальше. Воздух утром был чистый и холодный, а небо синее-пресинее. Позже, за полдень, появлялись первые облака, на севере и востоке над вершинами вздувались их ослепительные купы. Свет трепетал над речной водой. Трепет был во всем, и, если обернуться, он сливался с журчанием воды и пением сверчков.
Однажды вместе с Эстер к реке пришел Гаспарини. Когда солнце стояло прямо над головой и Эстер, собравшись домой, начала подниматься вверх по склону, Гаспарини удержал ее за руку: «Пойдем навестим моего кузена, он жнет внизу, в Рокбийере». Эстер колебалась. Гаспарини настаивал: «Это недалеко, надо только спуститься, давай поедем на телеге с моим дедом». Эстер как-то побывала на жатве, давно, с отцом, но теперь уже не помнила, как выглядит пшеница. Решившись наконец, она села в телегу. Там были женщины в ярких косынках, дети. Дед Гаспарини правил лошадью. Телега покатила вниз по петляющей горной дороге. Дома кончились, только река блестела на солнце да зеленели поля. Дорога была ухабистая, телегу трясло, женщины смеялись. Перед самым Рокбийером долина стала больше. Прежде чем что-либо увидеть, Эстер услышала: крики, женские голоса, пронзительный смех долетали до нее с теплым ветром, и еще — глухой, ровный гул, похожий на шум дождя. «Приехали, — сказал Гаспарини, — вон они, пшеничные поля». Еще один поворот с проселка на большую дорогу — и Эстер разом увидела всех жнецов за работой. Там было много людей, стояли телеги, запряженные лошади щипали траву, носились дети. Пожилые мужчины грузили пшеницу в телеги деревянными вилами. Большая часть поля была уже сжата, женщины в ярких косынках, низко наклонившись, вязали снопы, а потом кидали их на дорогу, к телегам. Рядом с ними маленькие дети играли с упавшими на землю колосками. Другие, постарше, собирали колосья в поле, набивая ими джутовые мешки.
А в дальнем конце поля работали молодые мужчины. В нескольких шагах друг от друга, шеренгой, как солдаты, они медленно шли в высокой пшенице, размахивая косами. Это их Эстер услышала издалека, подъезжая. В отлаженном механическом ритме взлетали косы, сверкнув на солнце длинными лезвиями, на миг замирали и — вжик! — падали вниз, с хрустом врезаясь в пшеницу, а косцы при этом издавали горлом и грудью глухой звук — ха-а-ах! — эхом разносившийся по долине.
Эстер спряталась за телегами, она не хотела, чтобы ее видели, но Гаспарини дернул ее за руку и заставил выйти с ним на середину поля. Стерня была жесткая, кололась сквозь веревочные подошвы сандалий, царапала ноги. И запах стоял над полем, запах, прежде незнакомый Эстер, потому, должно быть, ей и стало поначалу страшно. Терпкий запах пыли и пота, смешанный запах человека и растения. Солнце слепило глаза, жгло веки, лицо, руки. Вокруг них в поле были женщины, дети, все бедно одетые, Эстер никогда не видела их раньше. С какой-то лихорадочной поспешностью собирали они упавшие из снопов колосья и запихивали в полотняные мешки. «Это итальянцы, — объяснил Гаспарини со снисходительной ноткой в голосе. — У них пшеница не растет, вот и повадились сюда колоски собирать». Эстер с любопытством смотрела на оборванных молодых женщин, на их лица, едва видные из-под выцветшего тряпья. «Откуда они?» Гаспарини показал на горы в дальнем конце долины. «Из Вальдиери пришли, из Санта-Анны (он сказал «Сантанны»), пешком через горы, голодно там у них». Эстер только диву давалась, никогда бы она не подумала, что итальянцы могут быть такими, как эти женщины и дети. Но Гаспарини уже тащил ее к шеренге косцов. «Смотри, вот он, мой кузен». Молодой парень в одной майке, с красными от солнца руками и лицом, опустил косу и остановился. «Ну что? Познакомишь меня с невестой?» Он громко расхохотался, и остальные косцы тоже приостановились, чтобы поглядеть на Эстер. Гаспарини только плечами пожал. Они с Эстер ушли на другой конец поля и сели на пригорке. Отсюда слышались только свист кос да хриплые выдохи косцов: «Ха-а-х! Ха-а-х!» «Мой отец говорит, — сказал Гаспарини, — что итальянцы проиграют войну, потому что им нечего есть». Эстер: «Тогда они, наверно, поселятся здесь?» Гаспарини решительно ответил: «Так мы им и позволим! Мы их выгоним взашей. И вообще, войну выиграют англичане и американцы. Отец говорит, что и немцев скоро побьют, и итальянцев». Тут он все-таки чуть понизил голос: «Мой отец в маки. А твой?» Эстер задумалась. Она не знала, что ответить. И сказала, как Гаспарини: «Мой тоже в маки». Гаспарини: «А что он делает?» Эстер: «Он помогает евреям перебраться через горы». Гаспарини нахмурился: «Это не то. Помогать маки — это совсем другое». Эстер уже пожалела, что затеяла этот разговор. Отец и мать наказали ей никогда не говорить ни о войне, ни о людях, которые приходили к ним, никогда и никому. Они сказали, что итальянские солдаты платят деньги тем, кто доносит на своих соседей. А вдруг Гаспарини доложит все это капитану Мондолони? Довольно долго оба сидели молча, жевали зерна пшеницы, выковыривая их из прозрачной оболочки. Наконец Гаспарини спросил: «А чем он занимается, твой отец? Я хочу сказать, чем он занимался до войны?» — «Он был учителем», — ответила Эстер. Гаспарини посмотрел на нее с интересом: «Учителем чего?» Эстер: «Учителем истории в лицее. Истории и географии». Гаспарини замолчал. Помрачнев, он смотрел прямо перед собой. А Эстер все вспоминала, как он сказал, глядя на детей, собиравших колоски: «Голодно там у них». Позже Гаспарини проронил: «У моего отца есть ружье, всегда было, оно у нас в амбаре спрятано. Если хочешь, я тебе его как-нибудь покажу». Потом они с Эстер опять сидели молча, слушали свист кос и дыхание косцов. Неподвижное солнце стояло в самой середке неба, и не видно было теней на земле. В стерне шевелились большие черные муравьи, сновали между стебельками, то останавливаясь, то снова устремляясь куда-то. Они тоже искали выпавшие из снопов пшеничные зерна.