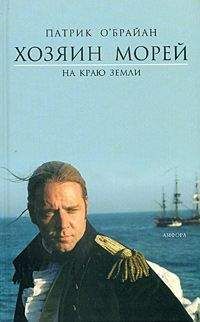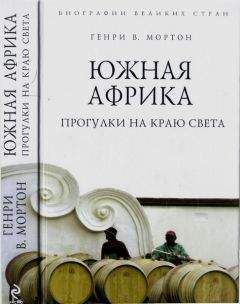Генри Бестон - Домик на краю земли
У Нозета вал обрывается, океан вторгается в пределы полуострова — начинается царство дюн.
Итак, вал прерывается, и целая стена дюн выдвигается на пляж. Через пять миль дюны тоже кончаются, упираясь в пролив. Океан каждодневно перехлестывает через его отмели, заполняя водой огромную лагуну, заходящую в тыл дюнам. Высыхающее дно лагуны усеяно возвышениями — приливными островками — и изрезано затейливыми изгибами проток. Это лагуна Истема и Орлинса. Иногда высокие приливы накрывают эти островки, превращая лагуну в настоящую бухту.
К западу виднеется Кейп-Кодская возвышенность, нависающая над топями и протоками. Вокруг Истема ландшафт представляет собой открытую волнистую местность, поросшую вереском. Еще дальше на запад находится залив Кейп-Код. Могущественное племя индейцев-нозетов владело когда-то этими землями, замкнутыми водами океана.
Дальний утес и одинокая дюна, водная равнина и яркая кромка иного мира на горизонте, луга, болота и поросли вереска — таков Истем, внешняя часть Кейп-Кода. Солнце и луна встают здесь из волн; небосвод подобен необъятному океану; облака приходят то с суши, то с океана. За долгие годы знакомства я так полюбил эту землю, что в конце концов выстроил для себя домик на ее дальней окраине.
Домишко стоял один-одинешенек на вершине дюны у южной оконечности истемского бара. Я сам начертил план дома, а выстроил его мой сосед со своими плотниками. Когда я начинал строиться, мне и в голову не приходила мысль использовать этот приют как постоянное жилье. Мне хотелось обзавестись гнездом, достаточно уютным и зимой, куда бы я смог приезжать в свободное время. Я назвал дом «Полубаком». Он состоял из двух комнат — спальни и кухни-гостиной, и его размеры были двадцать футов в длину и шестнадцать в ширину. Кирпичный камин, стоявший спиной к смежной стене, обогревал не только гостиную, но и выгонял холод из спальни. Для приготовления пищи я использовал керосиновую плитку с двумя конфорками.
Сосед строил добротно. Как я и ожидал, дом оказался компактным, прочным, удобным и теплым. Большая комната была обшита деревом, и я покрыл стенные панели и оконные рамы желто-коричневой краской под цвет буйволовой кожи — добротным колером настоящего корабельного полубака[3]. Все же количество окон в доме выдавало любительский подход к его планировке. Их было десять. Семь в большой комнате: два смотрели на восток, на необозримый океанский простор; два — на запад, словно контролируя топи; два — на юг; кроме них в дверь было врезано застекленное оконце-глазок. Семь окон одной из комнат глядели с вершины песчаного холма, открыто стоящего под лучами океанского солнца (в его ослепительно ярком перекрестном огне). Я предвидел это обстоятельство и предусмотрительно снабдил окна ставнями.
По первоначальному замыслу ставни были сделаны на случай суровой зимы, однако они служили мне в течение всего года, спасая и от солнца. Вскоре я понял, что могу либо полностью затемнять комнату, либо по собственному усмотрению превращать ее в подобие открытой веранды. В спальне я прорубил три окна: на восток, на запад и на север, к маяку Нозет.
Чтобы добывать питьевую воду, я вогнал в тело дюны трубу-колодец. Хотя из-за близкого соседства океана местный песок, кажется, просолился насквозь, глубоко внизу все же таятся пресные воды. Качество этой воды неодинаково: кое-где она немного солоновата, местами — свежая и вкусная. Мне посчастливилось наткнуться на обильный источник очень чистой воды. Труба помпы спускалась под пол в крытый колодец, выложенный кирпичом; там был устроен кран для ее осушения во время заморозков. (В жестокие морозы я наполнял водой несколько ведер, ставил их в раковину и немедленно осушал помпу.)
Для освещения я пользовался двумя керосиновыми лампами, для чтения — подсвечниками, сделанными из бутылок. Камин, набитый плавником до отказа, обогревал дом. Поначалу я не сомневался в том, что обогреваться одним лишь камином — сущая нелепость, однако он справлялся со своим делом. Его огонь стал для меня чем-то большим, чем обыкновенный источник тепла: пламя олицетворяло стихию, служило домашним божком и другом.
В большой комнате я поместил шкаф, окрашенный в чистый синий цвет, стол, настенный книжный шкаф, кушетку, пару стульев и кресло-качалку. Кухня, устроенная по-яхтенному, то есть в линию, располагалась у южной стены. Сначала шел шкафчик для тарелок и чайной посуды, за ним пространство для керосиновой плитки — обычно я убирал ее в ящик, — затем полка, фаянсовая раковина и угловая помпа. Слава богу, она ни разу не подвела меня и никогда не действовала на нервы.
Я доставлял необходимые припасы на собственных плечах в рюкзаке. В дюнах не проложено дороги, а если бы она и была, все равно никто не стал бы снабжать меня топливом и продовольствием.
Западнее полосы дюн проходило нечто вроде проселка, где можно было попытаться проехать на «форде», однако даже самые опытные водители, испытав его «прелести», больше не брались за это. Мне приходилось слышать рассказы о том, как они буксовали в трясине или вязли в песке по самые оси. Тем не менее все мои громоздкие вещи были доставлены этим путем, и время от времени добряк сосед, владевший повозкой и лошадью, привозил мне канистру с керосином. Однако помощь такого рода носила эпизодический характер, и я считал, что мне вполне повезло хотя бы с этим. Рюкзак — этот дюнный «вагон» — был единственным транспортным средством, не подводившим меня никогда.
Согласно уговору, дважды в неделю мой товарищ встречал меня у станции Нозет и отвозил на автомобиле за покупками в Истем или Орлинс, а затем доставлял обратно. В Нозете я упаковывал в рюкзак молоко и яйца, масло и булочки, принимая все меры предосторожности для того, чтобы ничего не разбить, и пускался в путь по пляжу вдоль бурунов.
Вершина холма, где я выстроил дом, находилась в тридцати футах от большого пляжа и на двадцать выше отметки полной воды. Моими ближайшими соседями, отделенными от меня двумя милями берега, оказались служащие Береговой охраны со станции Нозет. К югу простирались те же дюны и отдаленные охотничьи угодья; заболоченная местность и приливы отрезали меня с запада от деревушки Истем с ее редкими строениями; океан осаждал порог моего дома. К северу, и только к северу, от «Полубака» имел я контакты с людьми. Примостившись на вершине дюны, мой домишко смотрел на все четыре стороны света.
Когда строительство завершилось и дом, простояв целый год, был признан вполне пригодным для обитания, я перебрался туда в сентябре, чтобы провести в нем пар) недель. Когда этот срок истек, я задержался еще на некоторое время, и, по мере того как лето переходило в осень, красота и таинственность этой земли и океанских волн настолько пленили меня, что отъезд стал невозможен.
Сегодняшний мир словно заболел малокровием, лишившись элементарных вещей: людям недостает языков пламени перед протянутыми ладонями родниковой воды, чистого воздуха, девственной земли под ногами.
В моем мире пляжа и дюн элементарные проявления стихии продолжали существовать и имели свои обиталища.
В моем присутствии разворачивалось несравненное, пышное шествие природы и времен года.
Приливы и отливы, набеги волн, сборища птиц, передвижения морских обитателей, зима и штормы, великолепие осени и святость весны — все это составляло неотъемлемую часть жизни пляжа.
Чем дольше я оставался там, тем становился увлеченнее, тем полнее мне хотелось познать это побережье, приобщиться к тайнам его стихий. Никто не препятствовал мне, и я не боялся одиночества.
Чувствуя в себе наклонности натуралиста, я вскоре решил прожить год на истемском пляже.
3Песчаный бар Истема — стена, оградившая залив. Его гребень нависает над пляжем. С противоположной стороны, от кромки этого гребня спускается к лугам длинный пологий скат, густо поросший травой. С высоты маячной башни Нозета окружающий ландшафт кажется довольно плоским; на самом же деле эта земля изрыта впадинами, глухими каналами, низинами в виде амфитеатров, где рев волн воспринимается как грохот водопада. Мне нравилось забредать в эти удивительные западни. На склонах котловин и их песчаных основаниях я находил образчики птичьих следов. Вот здесь, на крохотном песчаном пятачке, испещренном когтями пернатых, приземлялась стайка жаворонков; в этом месте одна из птиц откололась от своих для того, чтобы совершить одиночную прогулку; вот более глубокие следы проголодавшихся ворон; там виднеются оттиски перепончатых чаячьих лапок. В отпечатках, оставленных в глубине этих впадин посреди дюн, мне чудится нечто таинственное и поэтическое. Эти отметины появляются словно ниоткуда, начинаясь иногда с едва различимого на песке легкого росчерка, оставленного птичьим крылом при приземлении, и прерываются так же внезапно, исчезая в бесследном пространстве неба.