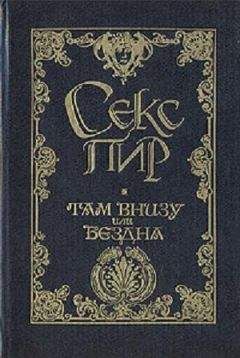Жорис Карл Гюисманс - Наоборот
Дез Эссэнт листал их и думал, что Барбэ утратил всякую осторожность, отпустил поводья лошади, помчался во всю прыть по дорогам и доскакал до самых крайних пределов.
Таинственный ужас средневековья витал над неправдоподобной книгой "Женатый священник"; магия смешивалась с религией, волшебство с молитвой и, более безжалостный, более дикий, чем Дьявол, Бог первородного греха беспрерывно мучил невинную Калликст, свою проклятую, клеймя ее лоб красным крестом, подобно тому, как раньше заставлял одного из ангелов отмечать дома неверных, которых хотел убить.
Задуманные натощак монахом, попавшим во власть лихорадки, эти сцены были написаны обладателем прихотливого стиля, беспокойного воображения; к несчастью, среди его испорченных созданий (Коппелии, гальванизированные Гофманом) некоторые, например Неель де Неу, казались задуманными в минуту изнеможения, следующую после кризиса; и они фальшивили в ансамбле мрачного безумия, куда вносили невольный комизм, исходящий от внешности цинкового человечка, трубача в мягких сапогах, что стоит на цоколе часов.
После мистических крайностей у писателя наступил период затишья; потом произошло новое грехопадение.
Вера в то, что человек — буриданов осел, существо, мечущееся между двух одинаково мощных сил, попеременно победителей и побежденных его души; и что человеческая жизнь — лишь борьба между небом и адом; вера в два противоположных существа — Христа и Дьявола — неизбежно должна была породить внутренние противоречия, когда душа, возбужденная нескончаемой борьбой, распаленная обещаниями и угрозами, в конце концов сдается и проституирует себя той из двух сил, чьи домогательства оказались более настойчивыми.
В "Женатом священнике" Барбэ восхвалял Христа, поскольку его искушения имели успех; в "Дьяволицах" автор уступил Дьяволу, прославляя его; и тогда прорезался садизм — незаконное дитя католицизма, все формы которого тот преследовал на протяжении веков заклинаниями и кострами.
Ведь это столь любопытное и столь плохо определенное явление не может возникнуть в душе неверующего; оно проявляется не только в разнузданности плоти, раздраженной кровавыми насилиями: в таком случае это было бы лишь отклонением детородного инстинкта, частным случаем сатириаза, достигшего крайней степени зрелости; прежде всего садизм заключается в кощунстве, в моральном мятеже, в духовном дебоше, в совершенно идеальном, совершенно христианском извращении. Он кроется еще в радости, умеренной страхом, радости, аналогичной нехорошему удовлетворению детей; они не слушаются, играя в нехорошие игры только потому, что родители строго это запретили.
Действительно, если бы не было святотатства, садизму незачем было бы существовать; с другой стороны, святотатство, проистекающее из самого существования религии, может быть умышленно и надлежащим образом осуществлено только верующим, так как человек не испытывал бы никакого удовольствия профанировать безразличную или неведомую ему веру.
Следовательно, сила садизма, его привлекательность кроется исключительно в запретном наслаждении расточать Дьяволу хвалы и молитвы, предназначенные Богу; она заключается в несоблюдении католических заповедей, в противоположных поступках; дабы больше осрамить Христа, свершают грехи, строже всего им осужденные: осквернение культа и плотскую оргию.
В сущности, преступление, которому маркиз де Сад завещал свое имя, столь же старо, как и Церковь; оно свирепствовало в ХVIII веке, сопровождаемое, чтобы не заходить дальше (обычный феномен атавизма) нечестивостями средневекового шабаша.
Стоило лишь дез Эссэнту перелистать "Malleus maleficorum", страшный кодекс Якоба Шпренгера, позволивший Церкви уничтожать на костре тысячи некромантов и колдунов, как он узнавал в шабаше все непристойности, все кощунства садизма. Кроме бесконечных сцен, дорогих Лукавому ночей, попеременно посвященных дозволенным и недозволенным совокуплениям, ночей, окровавленных животностью случки, он находил пародию на процессии, постоянные оскорбления и угрозы в адрес Бога, преданность его Сопернику, когда проклиная хлеб и вино, справляли Черную мессу на спине стоящей на четвереньках женщины, чей голый и постоянно оскверняемый круп служил алтарем, а присутствующие издевательски причащались черной просфорой, в тесто которой было впечатано изображение козла.{37}
Маркиз описал это истечение порочных насмешек, марающих гнусностей, приправляя жуткое сладострастие кощунственными оскорблениями. Он вопил в небо, призывал Люцифера, презрительно именовал Бога мерзавцем и дураком; плевал на причастие, старался осквернить Божество нечистотами, дерзко заявлял, что оно не существует, надеясь заслужить проклятие.{38}
Подобное душевное состояние передавал и Барбэ д'Орвилли. То, что он не заходил столь далеко, как де Сад, произнося проклятия в адрес Спасителя; то, что, более осторожный или боязливый, он уверял, что почитает Церковь, не мешало ему, как в Средние века, обращать настоятельные просьбы к Дьяволу, и он тоже, бесстрашно нападая на Бога, доползал до демонической эротомании, сочинял чувственные ужасы, даже стянул эпизод из "Философии в будуаре", облагородив новыми приправами в рассказе "Обед безбожника".
Дез Эссэнт наслаждался этой неистовой книгой; экземпляр "Дьяволиц" он велел напечатать епископским фиолетовым в обрамлении кардинальского пурпура на настоящем пергаменте, который освятили аудиторы римского судилища, причем закорючки гражданского шрифта, хвостатые и когтистые росчерки напоминали сатанинские.
Наряду с некоторыми стихотворениями Бодлера (в подражание песням, выкрикиваемым в ночь шабаша, и он сочинял адские литании), эта книга была в потоке современной апостольской литературы единственной, где выражено набожное и одновременно нечестивое состояние души; наваждения католицизма, стимулированные приступами невроза, часто подталкивали к ней дез Эссэнта.
Серия религиозных писателей завершалась Барбэ д'Орвилли; по правде сказать, этот пария со всех точек зрения принадлежал, скорее, к светской литературе, нежели той, у которой требовал неуступаемое ему место; его стиль взъерошенного ревматика, изобилующий скрученными выражениями, непривычными оборотами, гиперболическими сравнениями, вздымал ударами хлыста фразы, и на протяжении всего текста они трещали хлопушками, позванивали колокольчиками. Словом, Барбэ д'Орвилли, как жеребец, гарцевал среди меринов, населяющих ультрамонтанские конюшни.
Дез Эссэнт размышлял об этом, перечитывая некоторые страницы книги и сравнивая ее нервный разноликий стиль с лимфатическим и неподвижным стилем его собратьев; он думал еще об эволюции языка, которую столь справедливо подметил Дарвин.
Смешанный с профанами, воспитанный в гуще романтической школы, знакомый с новейшими произведениями, Барбэ безукоризненно владел языком, пережившим многочисленные глубокие изменения и обновлявшимся с начала великого века.
Напротив, запертые на своей территории, погруженные в одно и то же обветшалое чтение, не знающие о литературном движении веков, и твердо решив скорее выколоть себе глаза, лишь бы его не замечать, священники вынуждены были пользоваться языком неподвижным, как язык восемнадцатого столетия; на нем еще до сих пор говорят и пишут потомки французов, поселившихся в Канаде, не принимая никакой селекции оборотов и слов в свой язык, изолированный от древней метрополии, испытавший со всех сторон вторжение английского языка.
Тем временем, серебристый звон колокола, возвещавшего малый Анжелюс, напомнил дез Эссэнту о том, что пришло время обеда. Он перестал читать, промокнул лоб и направился к столовой, думая, что среди всех расставленных им томов только в книгах Барбэ д'Орвилли мысли и стиль, тронутые тленом, обладают болезненными пятнами, подпорченной кожурой и вкусом перезрелого плода, что с таким удовольствием он вкушал у латинских декадентов и монахов Средневековья.
XIII
Погода все больше портилась; все времена года смешались; после шквалов и туманов на горизонте показались раскаленные добела небеса, похожие на железные пластины. В два дня без всякого перехода влажный холод туманов и струение дождей сменились страшной жарой; в воздухе была невыносимая тяжесть. Словно разожженное ломом для размешивания расплавленного металла солнце скрылось, как печная глотка, бросая почти белый свет, режущий глаза; огненная пыль поднималась от перегретых дорог, опаливая сухие деревья, поджаривая пожелтевшую траву; стены, побеленные известью, очаги, вспыхнувшие на цинке крыш и стеклах, ослепляли; домик дез Эссэнта готов был растаять от давившей на него плавильни.
Полуголый, он открыл окно — в лицо дохнуло горнилом; столовая, куда он спрятался, полыхала, разряженный воздух кипел. Он сел в отчаянии, потому что перевозбуждение, поддерживавшее его с тех пор, как он стал мечтать, классифицируя книги, прекратилось.