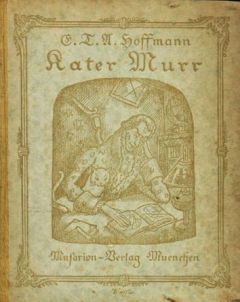Эрнст Гофман - Житейские воззрения Кота Мурра
Советница Бенцон с трудом склонила принцессу Гедвигу появиться на вечернем приеме, где она неизбежно должна была встретить капельмейстера Крейслера. Она сдалась лишь тогда, когда советница весьма убедительно доказала ей, какое это ребячество ― избегать человека только из-за того, что его нельзя причислить к разряду людей, похожих друг на друга, как монеты одной чеканки, из-за того, что он временами обнаруживает некоторую исключительность характера. К тому же Крейслер принят у князя, так что бесцельно настаивать на своем странном капризе.
Весь вечер Гедвига так ловко лавировала, избегая капельмейстера, что, несмотря на искреннее желание испросить у нее прощение ― ибо Крейслер по натуре своей был прямодушен и незлобив, он, сколько ни старался, не смог к ней приблизиться. Самые ловкие его маневры разбивались о хитроумную тактику принцессы. Тем более поразило наблюдавшую за нею Бенцон, что принцесса вдруг вырвалась из круга дам и направилась к капельмейстеру. Крейслер стоял, погруженный в столь глубокую задумчивость, что его привел в себя только вопрос принцессы: неужели у него не найдется ни слова, ни знака одобрения успеху Юлии?
― Светлейшая принцесса, ― ответил Крейслер голосом, обличавшим внутреннее волнение, ― светлейшая принцесса, по достоверному свидетельству самых маститых писателей, праведники заменяют слова мыслью и взглядом. А я, кажется, побывал на небесах!
― О, тогда наша Юлия ― светлый ангел, ― ответила, улыбаясь, принцесса, ― она открыла перед вами врата рая. Но теперь я попрошу вас на несколько минут спуститься с небес и выслушать бедное дитя земли, стоящее перед вами.
Принцесса помолчала, словно ожидая ответа Крейслера, но тот, не проронив ни слова, устремил на нее горящий взор. Она опустила глаза и резко отвернулась, отчего небрежно накинутая шаль соскользнула у нее с плеч. Крейслер поймал шаль на лету. Принцесса не двигалась с места.
― Прошу вас, ― произнесла она наконец нетвердым, пресекающимся голосом, словно борясь с принятым решением, словно ей трудно было высказать какую-то мысль, ― поговорим прозаическими словами о поэтических вещах. Я знаю, вы даете Юлии уроки пения, и должна признать, что за последнее время голос ее и манера несравненно выиграли. Это внушает мне надежду, что вы сможете развить даже такой посредственный талант, как у меня. Я думаю, что...
Гедвига запнулась и покраснела до корней волос, ибо Бенцон подошла и стала уверять, что принцесса весьма несправедлива к себе, называя свои музыкальный дар посредственным, ― она великолепно играет на фортепьяно и очень выразительно поет. Принцесса в своем замешательстве вдруг показалась Крейслеру необыкновенно мила, и из уст его полился поток любезностей; в заключение он заявил, что нет для него большего счастья, чем помочь принцессе советом и делом в ее музыкальных занятиях, лишь бы на то было ее желание.
Гедвига слушала Крейслера с видимым удовольствием. Но вот он замолчал, и она прочла во взгляде Бенцон упрек: «Что же ты боялась этого милейшего человека?» Она промолвила вполголоса:
― Да, да, Бенцон, вы правы, я иногда бываю ребячливей ребенка.
И тут же, не глядя, она взяла шаль, которую Крейслер все это время держал в руках и теперь протянул ей. При этом он случайно коснулся руки принцессы, и сразу такой сильный удар потряс все его нервы, что он едва не лишился сознания.
Как светлый луч, пробившийся сквозь мрачные тучи, долетел до Крейслера голос Юлии:
― Придется еще петь, дорогой Крейслер, ― сказала она, ― меня не оставляют в покое. Конечно, хотелось бы попробовать тот чудный дуэт, который вы принесли мне на днях...
― Вы не можете отказать Юлии, ― вмешалась советница Бенцон, ― милый капельмейстер, живо к фортепьяно!
Крейслер, не в силах вымолвить ни слова, сел за фортепьяно, точно опьяненный каким-то необъяснимым дурманом, и взял первый аккорд дуэта. Юлия начала:
«Ah che mi manca l'anima in si fatal momento...» [39]. Надобно сказать, что слова этого дуэта, как и во всех итальянских романсах, наивно повествовали о разлуке любящих сердец и в них, разумеется, momento [40] рифмовалось с sento [41] и tormento [42], а также, как в сотнях подобных дуэтов, не обошлось без Abbi pietade, о cielo [43] или pena di morir [44]. Но Крейслер сочинил музыку на эти слова в миг величайшего душевного подъема, с такой страстью, что исполнение ее не могло не проникнуть в душу каждому, кого небо наделило сколько-нибудь сносным слухом. Этот дуэт можно было считать одним из самых пылких творений этого жанра; но Крейслер стремился к живейшей выразительности, а не к тому, чтобы спокойно, в такт, аккомпанировать Юлии, и оттого он поначалу с трудом попадал ей в тон. Юлия вступила робко, неуверенным голосом, Крейслер ничуть не лучше. Но вскоре голоса их полетели ввысь на волнах песни, как два белоснежных лебедя, и то уносились, шумно взмахивая крылами, к сияющим золотом облакам, то под рокочущий поток аккордов замирали в сладостном любовном объятии, покамест глубокие вздохи не возвестили приближение смерти и последнее «Addio» [45] не вырвалось криком дикой боли, словно кровавый фонтан брызнул из растерзанной груди.
Не нашлось человека, кого бы дуэт не захватил до глубины души; у многих в глазах стояли слезы, сама Бенцон созналась, что не переживала ничего подобного даже в театре при наилучшем исполнении прощальных сцен. Юлию и капельмейстера осыпали похвалами, говорили о подлинном вдохновении, одушевлявшем обоих, и превозносили само сочинение, быть может, даже более, нежели оно заслуживало. На лице принцессы Гедвиги во время пения заметно отражалось глубокое волнение, как она ни старалась казаться спокойной и скрыть свои чувства. Рядом с нею сидела юная фрейлина с румяными щеками, одинаково склонная и поплакать и посмеяться; принцесса все время что-то нашептывала ей на ухо, но та, опасаясь нарушить придворный этикет, лишь изредка бросала ей в ответ словечко. И к советнице Бенцон, сидевшей по другую ее сторону, Гедвига обращалась с разными пустяками, словно вовсе и не слушала пения; но та со свойственной ей строгостью манер попросила принцессу отложить беседу до окончания дуэта. Зато теперь Гедвига, вся разгоревшаяся, со сверкающими глазами, заговорила так громко, будто старалась перекричать сыпавшиеся со всех сторон похвалы:
― Теперь, надеюсь, и мне будет позволено высказать свой взгляд. Я признаю достоинства дуэта как музыкального произведения, и наша Юлия спела его великолепно. Но разве справедливо, разве допустимо, чтобы нам здесь, в нашем уютном кругу, где должна царить непринужденность, где речи и музыка должны литься свободно и легко, подобно нежно журчащему среди цветочных куртин ручейку, ― разве допустимо, чтобы нам здесь преподносили столь экстравагантные дуэты? Они так терзают нас, оставляют столь губительный след в душе нашей, что от них невозможно отделаться. Я напрягала все свои силы, чтобы не слушать, не впускать в свою грудь эту дикую, адскую боль, которую Крейслер выразил в звуках со свойственным его искусству полным небрежением к нашему легкоранимому сердцу, но ни у кого недостало доброты поспешить мне на помощь. Пусть я слаба, капельмейстер, пусть стану жертвой вашей иронии, но я охотно сознаюсь, что тяжкое впечатление от этого дуэта сделало меня совсем больной. Неужели нет больше Чимарозы, нет Паизиелло, чьи сочинения точно созданы для услады нашего общества?
― Боже правый, ― воскликнул Крейслер, и на лице его заиграл каждый мускул, как всегда, когда в нем пробуждался юмор, ― о боже, светлейшая принцесса! Если бы вы знали, насколько я, самый жалкий из капельмейстеров, разделяю ваше милостивое мнение! Не противно ли добрым нравам и предписаниям моды выставлять напоказ свою грудь со всеми ее печалями, всей скорбью, всем восторгом, не закутав ее предварительно в пышное жабо изысканнейшей благовоспитанности и приличия? Чего стоят в таком случае все огнетушительные устройства, уготованные хорошим тоном? Чего они стоят, если они неспособны погасить яркое пламя, готовое прорваться то здесь, то там? Сколько бы ни прополаскивали наши желудки чаем, сахарной водицей, благонамеренными разговорами, приятным пустословием ― все же подчас тому или иному кощунственному поджигателю удается подбросить в общество зажигательную ракету, и вот пламя вспыхивает, освещает все вокруг и даже, представьте, обжигает, что не под силу чистому лунному сиянию! Да, светлейшая принцесса, да, я ― несчастнейший из капельмейстеров на нашей грешной земле, я дерзнул на постыдное кощунство, выступив с этим нечестивым дуэтом и приведя в смятение все общество, подобно адскому фейерверку со всеми его огненными шарами, кометами, римскими свечами и пушечными залпами, и ― замечу с прискорбием ― почти повсюду вызвал пожар! Ах!.. Огонь... огонь... Тысяча чертей! Горит!.. Пожарные насосы сюда!.. Воды!.. Воды!.. На помощь! Спасите!