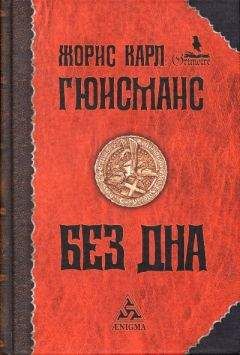Жорис-Карл Гюисманс - Там внизу, или Бездна
О чем думал он, бессознательно пробегая одно за другим различные сообщения? Ни о чем. Даже не о ней. Дух его как бы омертвел, впал в оцепенение, обессиленный стремлением все к той же цели, приковавшей к себе все помыслы его, все чувства.
Дюрталя охватила усталая истома, и он застыл, как бы погруженный в теплую ванну после ночи, проведенной в пути.
Наконец поднялся и подумал, что ему надо вернуться вовремя домой: отец Рато не исполнил, конечно, его просьбы, не прибрал, как следует его жилища, а он не хотел видеть сегодня на своих вещах налета пыли.
Шесть часов. Где бы наскоро сносно пообедать? Он вспомнил, что поблизости есть ресторан, в котором ему случалось питаться без особых опасений. Нехотя съел там сухую рыбу и рыхлое холодное мясо. Выудил в соусе мертвых мух, без сомнения, убитых смертоносным порошком от насекомых. Отведал в заключенье залежавшегося чернослива, отзывавшегося плесенью, водянистого и затхлого.
Вернувшись к себе, он поспешил разжечь огонь в спальне рабочем кабинете и внимательно оглядел свои комнаты.
Да, он не ошибся. Привратник убрал квартиру как всегда бессмысленно и спешно, но пытался протереть оконные стекла, которых Дюрталь заметил следы пальцев.
Дюрталь провел по окнам мокрым полотенцем, расправил трубчатые складки ковра, задернул занавеси, вычистил тряпкой безделушки и расставил их в порядке. Повсюду натыкался на папиросный пепел, крошки табака, опилки после очинки карандашей, обломанные, ржавчиной изъеденные перья. В углах он ходил сор, очевидно, сметаемый туда метелкой, волосы кошки, разорванные черновики, разбросанные клочки бумаги.
Невольно задал себе вопрос, как мог он так долго терпеть столько грязи, засорявшей его мебель. И росло негодование против Рато по мере того, как продвигалась чистка. А это! Он заметил, что свечи пожелтели, походили цветом на подсвечники. Вставил новые. Кажется, так лучше. Устроил искусственный беспорядок на письменном столе. Разложил тетради с заметками, книги, прорезанные закладками, на стуле положил открытый древний фолиант. «Символ творчества!» – подумал он, смеясь. Перешел в спальню, освежил мрамор комода влажной губкой, расправил покрывало на кровати, выпрямил висевшие криво рамки фотографий и гравюр и направился в уборную. Там у него опустились руки. На бамбуковой этажерке над умывальным столиком беспорядочно были нагромождены пузырьки. Он смело принялся за флаконы с духами, вымыл горлышки и герметические пробки, протер хлебным мякишем и резиной ярлык, вымыл таз, окунул гребни и щетки в воду, насыщенную аммиаком, развеял по комнате при помощи пульверизатора аромат персидской сиреневой пудры, вычистил умывальник, вытер спинку и сиденье стула. Снедаемый жаждой чистоты, он изо всей силы скреб, чистил, тер, поливал, перетирал. Он не сердился уже на привратник a . Наоборот, кончив, пожалел, что нечего больше перечищать и освежать.
Потом выбрился, положил брильянтину на усы, тщательно занялся своим туалетом. Одеваясь, колебался, надеть ли ему ботинки на пуговицах или туфли, рассудил, что ботинки степеннее и пристойнее, отважился, однако, свободным узлом завязать галстук и облечься в блузу, полагая, что этой женщине скорее понравится небрежный костюм художника.
«Кажется, все в порядке!» – решил он, проведя последний ра з щеткой. Вернувшись в другие комнаты, он развел огонь в камине, накормил кошку, бродившую, изумленно обнюхивавшую вычищенные вещи, казавшиеся ей непохожими на те обычные предметы, мимо которых она изо дня в день проходила равнодушно. Ах! Да. Он чуть не забыл об угощении! Около камина Дюрталь поставил спиртовку, расставил на старинном лакированном подносе чашки, чайник, сахарницу, приготовил пирожное, конфеты, рюмки с узорчатой каймой. Он хотел, чтобы все это было сейчас же под рукой, как только настанет подходящий миг.
Теперь готово. Я беспощадно перетряхнул мое жилище, пусть приходит, думал он, выравнивая на полках выдвинувшиеся корешки книг. Все хорошо, только... только стекло лампы испещрено крапинками и в утолщении засалено маслом. Но я не могу убрать его и вовсе не намерен жечь пальцы. К тому же это незаметно, если спустить немного абажур.
– Как мне вести себя, когда она придет? – размышлял он, усевшись в кресло. – Она входит, отлично, я беру ее руки, жму. Потом приглашаю сюда в комнату, усаживаю здесь возле огня, раз в это кресло. Сам сажусь напротив, на табуретку, понемногу придвигаюсь, касаюсь ее колен, снова схватываю и сжимаю руки. Нежно притягиваю ее к себе, увлекаюсь, чувствую ее губы и... спасен!
О нет, это далеко не все! Песенка лишь начинается. Нечего и думать увлечь ее в спальню. Раздевание, постель – с этим можно примириться, только когда знаешь друг друга. В этом отношении невыносимы, отвратительны первые шаги любви, я не могу вообразить себе их иначе, как в обстановке ужина вдвоем, когда женщина распалится дурманом безумного вина. Я хотел бы овла деть ею в забытье, хотел бы, чтоб она пробудилась в сумерках, в чаду обманных поцелуев. Взамен ужина нам обоим необходимо избегать сегодня докучливых помех, постараться низменность плоти скрасить взмахом страсти, унестись в пламенном вихре души. Я овладею ею здесь, пускай она вообразит, что изнемогает, а я теряю голову.
Неудобно, что здесь, в комнате, нет ни канапе, ни дивана. При таких условиях всего лучше ее опрокинуть на ковер. Как всякая женщина, она прибегнет к уловке, закроет глаза руками. Я позабочусь, конечно, убавить свет, прежде чем она очнется.
Во всяком случае, надо приготовить для нее подушку. Он принес подушку, бросил на кресло. Не отстегнуть ли подтяжки, у меня с ними часто пресмешная возня. Снял подтяжки и поднянул панталоны. Да, но проклятые юбки! Удивляюсь на романистов, которые в книгах лишают невинности дев, разряженных, затянутых в корсеты, и, заметьте, у них это совершается в один миг, между поцелуями, точно по мановению руки! Что за тоска воевать с этими пустяками, возиться с накрахмаленными складками белья! Надеюсь, что она окажется предусмотрительной и в собственных интересах позаботится, чтобы не было смешных трудностей!
Он взглянул на часы – была половина девятого. Ее не ждать ранее, чем через час, гадал он; подобно всем женщинам она, конечно, опоздает. Любопытно, какую чертовщину преподнесет она бедному Шантелуву, как объяснит свое вечернее исчезновение?
Меня в сущности это не касается. Гм! Котелок около камина как бы приглашает к омовению. Пустяки! Я приготовил его, чтобы заварить чай, и этого довольно, чтобы рассеять всякую грубую мысль. А вдруг Гиацинта не придет?
Придет, решил он с чувством внезапного волнения. Она понимает, что нельзя раскалить меня дальше и ускользать ей теперь нет никакого смысла. Думая об одном и том же, он перескакивал с одной мысли на другую: я убежден, что это будет мукой. Может быть, первое же насыщение принесет разочарование. Тем лучше, я буду хоть свободен, а то из-за этого приключения я пе рестал работать. Как обрушилось это на меня! Я отброшен в юность, мне опять двадцать лет, только, увы, душою! Я, человек, уже долгие годы презирающий влюбленных и любовниц, я ожидаю женщину, смотрю на часы каждые пять минут, невольно вслушиваюсь, не скользят ли на лестнице ее шаги.
Нет, трудно, должно быть, вырвать нежный цветок из души, и его пряный корень дает отростки! Ничего нет целых двадцать лет, и вдруг показываются побеги, и сам не знаешь, почему и как, и чувствуешь, что зачарован безысходными сетями любви! Бог мой, какой я безумец!
Он ворочался в кресле. Прозвенел тихий звонок. «Нет еще девяти, это не она», – пробормотал он, отпирая.
Вошла она.
Он жал ей руки, благодарил за точность.
Она сообщила, что ей нездоровится.
– Я не хотела, чтобы вы прождали напрасно, а то не пришла бы!
Он встревожился.
– У меня адская мигрень, – объяснила она, проводя по лбу затянутыми кожей перчаток пальцами.
Он помог ей освободиться из мехов, упрашивал сесть в кресло, сам хотел, как задумал, сесть на табурет, придвинуться поближе, но она отказалась от кресла, села поодаль от камина, на низкий стул возле стола.
Стоя, он склонился перед ней, взял ее пальцы.
– Какая у вас горячая рука, – заметила она.
– Да, меня лихорадит, я плохо сплю. Если б вы знали, как много я думаю о вас! Всегда чувствую я вас здесь, около себя, – он рассказал ей, что перчатки ее источают далекое, угасающее благоухание корицы, сливающееся с другими, менее уловимыми ароматами. – Знаете, – и он понюхал ее пальцы, – когда сегодня вы покинете меня, после вас останется крошечная частица вac самой.
Она поднялась со вздохом:
– Вот как, у вас кошка... Как зовут ее?
– Муха.
Она позвала. Та поспешила скрыться.
– Муха! Муха! – кричал Дюрталь.
Но Муха забилась под кровать и не выходила.
– Она немного дикая... никогда не видала женщин.