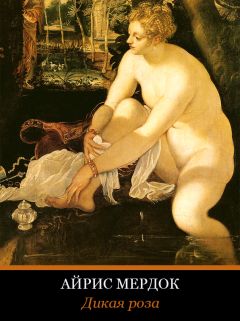Айрис Мердок - Дикая роза
— Не надо. Когда-нибудь тебе же придется начать мне верить, — сказала Линдзи уже мягче.
— Я знаю. Горе в том, что если я не поверю тебе с самого начала, то уже никогда не поверю.
— Ну так и поверь с самого начала.
Рэндл медленно поднялся. Волосы Линдзи, выбившись из выреза платья, покрывали её плечи золотыми витками и блестками. Его умилило, как молодо она выглядит — бедная сиротка в поисках принца. Дик Уиттингтон[15] в мире страстей.
— Хорошо, — сказал он смиренно. Это была капитуляция.
Линдзи взяла его за руку. Теперь она была сама доброта.
— Я всегда думала, что в этой сцене ты будешь меня обольщать, а вышло, что обольщать пришлось мне. Да ещё какого труда это стоило. Ну куда ты после этого годишься!
— Значит, ты представляла себе эту сцену? — спросил он польщенно.
— Тысячу раз.
Это было и радостно, и страшно, и, когда они входили в её комнату, его кольнуло некое предчувствие.
Линдзи задернула шторы и зажгла лампу. Разостлала постель. В красном свете настольной лампы комната сразу стала маленькой и ко всему готовой. Сквозь щель в занавесках виднелся далекий дневной свет. Рэндл закрыл дверь и прислонился к ней, совсем обессиленный.
Линдзи повернулась к нему, скручивая волосы и отбрасывая их назад через плечо. Половина её лица была в тени, как у дамы на игральной карте. Она сказала тихо, но четко:
— И вот ещё что, Рэндл. Пусть я изменила порядок номеров, но вся программа остается в силе. Не забудь подумать практически. Либо деньги, либо прощай. — И стала снимать платье.
Черт, ну и женщина, думал Рэндл. Он боготворил её. И в то же время был скован страхом. Теперь он сомневался, не были ли его безумные фантазии насчет коварства Эммы уловкой, которую он сам изобрел, чтобы отсрочить эту минуту до бесконечности. Он смотрел на Линдзи.
Она стянула коричневое платье через голову и высвободила волосы. Под платьем оказалась очень короткая нижняя юбка. Отложив платье в сторону, она опять стала скручивать волосы, и рука её слегка дрожала.
— Боже мой, Линдзи, — сказал Рэндл. Сейчас она такая трогательная и жалкая, но почему же ему страшно? Она похожа на несчастную осужденную девку, которую в одной рубашке ведут на казнь. А у него подгибаются колени.
— Ну же, — сказала она еле слышно, — ну же, Рэндл. — И, нагнувшись, стала снимать чулки.
Рэндл взялся за галстук. Узел, вместо того чтобы развязываться, затягивался туже.
Линдзи сняла с себя все, кроме юбки, подошла к нему и стала помогать ему с галстуком, приговаривая:
— Сейчас, сейчас.
Он чувствовал тепло её рук. Он сдернул галстук, снял пиджак и жилет и повесил на стул. Сбросил ботинки. Потом, задыхаясь, опять прислонился к двери. Он уже почти не узнавал Линдзи.
Она смотрела на него насмешливо и нежно.
— А сейчас не хочешь домой?
— Боже мой, Линдзи, — повторил он и, упав на колени, обхватил её ноги. Ноги были неимоверно теплые и мягкие. Она начала снимать юбку, и он прильнул головой к её бедру. Он чувствовал, как она дрожит. Он глубоко вздохнул раз за разом.
— Сейчас, сейчас, — сказала Линдзи. Опустившись рядом с ним на колени, она расстегивала его рубашку. Он коснулся её груди. Он узнал её грудь. Потом рука его дернулась кверху — это Линдзи через голову стягивала с него рубашку. А потом она потянулась к его поясу.
— Не надо, я сам. — Он сел на пол и разделся до конца.
Линдзи лежала на кровати поверх одеяла. Рэндл, стоя на коленях, смотрел на нее. Потом взглянул на её лицо. Глаза их словно стали огромными и светились, так что они как будто были вдвоем в большой пещере. Медленно подтянувшись, он сел на край кровати. Потом отвернулся от Линдзи и закрыл лицо руками.
— Ну что ты, милый, что ты? — шепнула Линдзи, гладя его по спине.
— Ничего не выйдет, — сказал Рэндл. — Черт, я этого и боялся.
— Неважно. Обними меня.
Он лег рядом, зарылся в неё лицом. Крепко обхватил её обеими руками.
Через минуту она сказала:
— Отдохни. Это неважно.
— Нет, важно. Зря я столько говорил про Эмму. Я отравился.
— Эмма теперь ни при чем. Она больше не имеет значения.
— А-а, да, больше не имеет. Знаешь, Линдзи, Эмма мне, в сущности, пожалуй, не нравится.
— И мне тоже. Пожалуй, она мне даже неприятна.
— И мне.
— Пожалуй, она мне даже противна.
— И мне. Ох, Линдзи…
Еще через несколько минут он сказал:
— Ты знаешь, кажется, все будет хорошо.
Глава 16
— Еще чашечку кофе? И печенья? — сказала Энн.
— Благодарю, милая, — сказала Эмма.
Близилось время второго завтрака, а она все жевала. Она ела не переставая чуть ли не с самого приезда, точно перед тем её морили голодом. Или, подумалось Энн, точно хотела съесть все, что вокруг себя видела.
Энн удивилась, была даже шокирована, когда Хью объявил, что собирается привезти в Грэйхеллок Эмму Сэндс. Очень уж мало времени прошло после смерти Фанни. Однако мысль, что этот визит неприличен, скоро сменилась другой — что это страшная морока. Нэнси Боушот болела или притворялась больной, Миранда всю неделю проводила дома, потому что в школе был карантин по краснухе. Энн и так еле справлялась с хозяйством, где уж тут принимать гостей! В комнатах было пыльно, неубрано. Она несколько дней вставала на полчаса раньше, чтобы навести хотя бы видимость порядка. От предложения Клер Свон помочь ей с цветами она отказалась, а потом пожалела, что отказалась. К приезду гостей она успела дойти до крайней степени усталости и раздражения.
И Эмма сразу повела себя странно и нельзя сказать чтобы успокаивающе. Вместо того чтобы погулять по саду с Хью, предоставив Энн готовить завтрак, она привязалась к Энн. Устроилась у окна в гостиной, курила бесконечные сигареты, одновременно поедая печенье, и брала интервью у всех имеющихся в наличии обитателей Грэйхеллока, вплоть до Боушота. Особенно много времени и внимания она уделила детям. Пока длились сами интервью, Энн убегала в кухню, чтобы успеть хоть что-то сделать, но каждый проинтервьюированный снова вызывал её оттуда. Словно в дом нагрянул правительственный инспектор.
Единственным, кого она не допускала пред свои очи, был Хью. Этот несчастный, будучи изгнан из дому, прохаживался по краю залитой солнцем лужайки, грыз ногти и бросал тоскливые взгляды на окна, в то время как остальные домочадцы, как персонажи в пьесе, входили и выходили, спеша выполнить желания Эммы. Вот и сейчас Миранда, вооружившись садовыми ножницами, вприпрыжку неслась через лужайку — её отправили нарезать букет французских роз для высокой гостьи. Пенн бежал за ней следом, как скворец за трясогузкой.
Энн, в дыму от дешевых сигарет, ходила взад-вперед по гостиной. Эмма странно действовала на нее: вселяла какое-то нетягостное беспокойство. Она и раньше не испытывала неприязни к бывшей любовнице своего свекра, только некоторое любопытство, и думала, что для неё этот день обернется нудной и ничем не примечательной суетой где-то на заднем плане. С удивлением она обнаружила, что ей, напротив, уготовано место на авансцене. С ещё большим удивлением она почувствовала, что атмосфера отзвучавшей драмы, окружавшая Эмму, бодрит её, более того — радует. Словно Эмма прибавила ей сил, уделила ей от своей более яркой личности света и красок.
Первое впечатление от известной писательницы разочаровало Энн. Она смутно ждала чего-то более эффектного, а эта ссутулившаяся пожилая женщина с медленными движениями и повадкой инвалида, выглядевшая старше, чем она, судя по всему, могла быть, сначала показалась ей чуть ли не жалкой. Но лицо у неё было умное. И почему-то лицо это внушало тревогу. От тревоги Энн так и не отделалась, но, проведя в обществе Эммы совсем немного времени, она оживилась в ответ на дружелюбное, понимающее любопытство своей гостьи и заговорила так, как не говорила уже много лет. Появилось ощущение расслабленности, как в теплой соленой ванне. Появилось приятное чувство, будто её, смешно сказать, обольщают.
А между тем разговор шел несвязный, пустяковый, о том о сем. Эмма расспрашивала её о детях, о питомнике, о её знакомых в деревне, о телевизоре Боушотов и о рецепте айвового джема, который Энн обещала достать для неё у Клер Свон. Единственной темой, которой они не касались, был Рэндл.
После памятного визита Милдред Финч Энн пребывала в довольно-таки несчастном состоянии. Милдред заставила её пережить две встряски — одну в связи с Рэндлом, другую в связи с Феликсом, и две эти неотступные заботы нелепо перепутались в её сознании. Энн вполне искренне сказала тогда, что не хочет знать, чем занят Рэндл в Лондоне. Она вовсе не жаждала, чтобы воображение рисовало ей картины его неверности. Милдред это, конечно, показалось бы невероятным, но она и раньше никогда не любопытствовала насчет того, как Рэндл проводит время, когда отлучается из дому. И правильно делала — это она поняла после того, как Милдред неожиданно прояснила обстановку, назвав определенное имя. Теперь, когда она знала соперницу по имени, вся ситуация казалась иной, временами невыносимой, и вокруг предмета, обретшего имя, мерцало, отбрасывая на него неясные, но зловещие отблески, пламя гнева и ревности, которых раньше не было. Энн страдала. Она не спрашивала себя, любит ли она ещё Рэндла. Может быть, после стольких лет вообще не было смысла говорить о любви, кроме как о слепом, но прочном убеждении, что они нерушимо принадлежат друг другу. То, что так крепко срослось, она в мыслях ещё не начала разрывать на части.