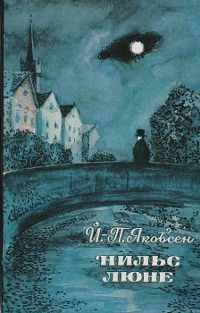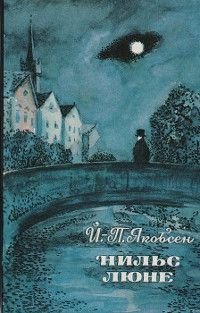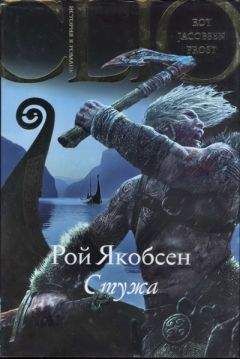Йенс Якобсен - Нильс Люне
— О, правда? Я бы расцеловала их, будь я на твоем месте.
— Расцеловала бы?
— Послушай, — вдруг сказала она. — Ты никогда не рассказывал мне про Эрика в детстве. Ну, какой он был?
— Лучше и прекрасней всех, Фенимора. Чудесный, славный, совершенный идеал мальчика, идеал именно не в глазах матери или гувернера, а другого мальчика, что куда важней.
— А ладили вы? Дружили?
— Да, видишь ли, я ведь просто влюблен в него был, ну, а он ничего не имел против этого или что–то в таком роде; мы ведь были, понимаешь ли, очень разные. Я только и думал, как буду поэтом и прославлюсь, а он — знаешь, что он мне ответил, когда я однажды спросил его, кем он собирается стать? Индейцем, настоящим краснокожим индейцем, раскрашенным и все как полагается! Помню, я никак не мог взять в толк, почему он мечтает стать дикарем; слишком я был цивилизованный мальчик.
— Ну, а то, что он художником решил стать, тебя не удивляло? — спросила Фенимора с холодноватой и недоброй ноткой в голосе.
Нильс заметил эту нотку и смешался.
— Что ты, — ответил он наконец. — Редко кто родится художником по всей натуре своей. И как раз полнокровные, живые люди вроде Эрика часто томятся по нежному, тонкому — по тонкой, девической прохладе, по сладкой высоте, словом, не знаю, как еще сказать. Внешне они сильны, тверды, даже грубы порой, и никто не догадывается, какие странные, романтические тайны носят они в святыне сердца, потому что они стыдливы, то есть душевно стыдливы, эти крепкие, грубые мужчины, так стыдливы, что с ними ни одна испуганная бледненькая барышня не сравнится. Понимаешь ли ты, Фенимора, что такая вот тайна, про которую и не рассказать простыми, обычными словами, такая тайна делает человека художником? А про нее нельзя рассказать, слышишь, никак нельзя, в нее можно только верить, она таится глубоко, точно луковица в земле, и лишь иногда сама выходит цветком на свет божий. Знаешь, ты не отнимай у цветка силы, верь и нее, радуйся, что питаешь ее и что она есть. Ты не сердись, Фенимора, но я боюсь, что вы с Эриком недостаточно добры друг к другу. Неужели же тут ничего не поделаешь? Не думай о том, кто прав, кто виноват, не меряй его вину, не стремись к справедливости, — что справедливость? Нет, ты лучше думай о нем, каким он был тогда, когда ты всего больше его любила, поверь, он того стоит. Не меряй, не взвешивай, бывают в любви, я знаю, мгновенья светлого, высокого восторга, когда можно жизнь отдать за любимого, если нужно. Верно ведь? Помни про эти мгновенья, Фенимора, не забывай про них, и ради него, и ради себя самой.
Он умолк.
Молчала и она, она лежала тихая, с тяжелой улыбкой на губах, белая, как цветок.
Потом она приподнялась и протянула Нильсу руку.
— Будешь моим другом? — спросила она.
— Я и так твой друг, Фенимора, — отвечал он и взял ее руку в свои.
— Будешь, Нильс?
— Всегда, — ответил он и почтительно коснулся ее руки губами.
Потом он встал. Таким прямым, показалось ей, она его никогда еще не видела.
Немного погодя вошла Трина и доложила, что воротилась, так что последовал чай и, наконец, переправа на лодке сквозь грустный дождь.
Уже на заре вернулся Эрик домой, и когда Фенимора в правдивом, холодном свете дня увидела, как он укладывается в постель, тяжелый, неловкий, серый от бессонной ночи, с глазами, остекленелыми от карточной игры, — все прекрасные слова, которые наговорил ей Нильс, показались ей нелепыми, а светлые клятвы, которые она твердила в душе, рассеялись, точно глупые сны, издох, хоровод красивых бредней.
Что толку бороться с безжалостным гнетом, давящим их обоих? К чему лгать самой себе — уж им не оправиться. Настал мороз, умолк цветочный гул, облетели яркие лозины, до последнего листика, до последнего цветка, и остались жесткие голые стебли, нещадно опутавшие их обоих. К чему жаром воспоминаний греть и воскрешать умершие чувства, вновь возводить идола на пьедестал, вызывать былой блеск на глаза, былые слова на уста, краску счастья на щеки, к чему, зачем, раз он не соглашается быть жрецом идола, не хочет помочь ей доброй ложью? Он! Да он и знать не знает ее любви, уши его не помнят ни единого ее нежного слова, ни единого дня из их дней не помнит его душа.
Нет, умерла и остыла любовь их сердец; сиянье, краски, звуки — все угасло; и часто еще сидели они привычно, он обвив руками ее стан, она склонив голову к нему на плечо, но оба — глубоко задумавшись, позабыв друг о друге; она вспоминала тот образ его, который сама сочинила, он в мечтах возводил ее к идеалу, что теперь всегда сиял ему в облаках, высоко над ее головою. Так жили они вдвоем, и дни уходили, и приходили, и не несли перемены, и день за днем смотрели они оба в пустыню жизни и убеждались, что это пустыня, что нет там цветов, нет и надежды на цветы, ручьи и пальмы.
Чем холодней становилась осень, тем чаще Эрик уезжал кутить. Что пользы, говорил он Нильсу, сидеть дома и дожидаться наития, пока мысли не окаменеют. Впрочем, общество Нильса мало тешило его, ему подавай было людей покрепче, из плоти и крови, а не из одних только тонких нервов. Фенимора поэтому часто оставалась наедине с Нильсом: он ежевечерне бывал в «Мариенлунде».
Договор, который они заключили, и слова, сказанные в тот воскресный вечер, сделали их отношения простыми и сердечными, и, оба одинокие, они сошлись в глубокой дружбе, и скоро она взяла над ними такую власть, что вместе ли, врозь ли они бывали, они думали друг о друге; так птицы, вьющие одно гнездо, на все смотрят с одной отрадной целью — сделать гнездо это теплым и мягким для себя и для дружка.
Когда Нильс не заставал Эрика, они всегда почти и в дождь и в вёдро подолгу бродили по лесу за садом. Они влюбились в этот лес, и по мере того как замирала летняя жизнь, он делался им все милей. Чего только не видели они в лесу! Сперва желтели, краснели, темнели листья, потом опадали, желтыми стайками крутясь на ветру, а в безветрие тихо шурша, листок за листком. А когда осыпалась с кустов и дерев вся листва, каких только не повылезло на свет сокровенных тайн лета, — несчетные гнезда, пестрые семечки, нарядные ягоды, темные орехи, блестящие желуди, узорные желудевые чашечки, коралловые кисточки на барбарисе, черно–сияющие терновые ягоды и рдяные урны шиповника. Раздетые буки стояли утыканные сплошь колкими своими орешками, а рябины гнулись под тяжестью красных кистей и кисло пахли яблочным сидром. Запоздалая ежевика валялась в бурой листве по обочинам; из вереска глядела брусника, и дикая малина второй раз отдавала лесу свои бархатные ягоды. Папоротник, завянув, окрашивался сотнями красок, а мох просто ошеломлял глаз, и не только густой мох по откосам и падям, что умел прикинуться то елью, то пальмой, а то и страусовым пером, но и тонкий мох на стволах, он был как нивы эльфов, весь — из неимоверно тонких стеблей и едва различимых темных колосков–почек.
Вдоль и поперек исходили они лес, — как дети, радовались по кладам и достопримечательностям и по–детски поделили его меж собой: по одну сторону просеки лежали владения Фениморы, по другую — земли Нильса, и часто они спорили, чье королевство прекрасней. Все назвали они по именам, холмы, тропинки, рвы, и пруды, и овраги; а когда им встречалось особенно большое или просто красивое дерево, то и ему давали имя. Так завоевывали они лес и создавали свой собственный мир, куда другим дорога заказана, однако ж ни одной совместной тайны, которую они не могли бы открыть всем и каждому, они не знали.
Пока не знали.
Любовь и была в их сердцах и не было ее, подобно тому как и есть кристаллы в перенасыщенном растворе и нет их, покуда нужная крупинка или хоть волокнышко не попадут в жидкость и, точно волшебной палочкой, не разбудят дремлющие атомы, и они бросятся друг другу навстречу, прилепятся друг к другу неразрывно по скрытым законам и составят кристалл.
Так пустяк открыл им глаза на то, что они любят друг друга.
Тут нечего и рассказывать: был день, как все дни, они были вдвоем в гостиной, как сотни раз прежде, и разговор шел самый будничный, и по видимости ничего необычного не случилось, только Нильс стоял у окна и смотрел наружу, а Фенимора подошла к нему и тоже посмотрела в окно, вот и все, но этого оказалось достаточно, ибо «прежде», и «теперь», и «потом» преобразились для Нильса Люне озарением, что он любит стоящую рядом женщину не как исток света, сладости, блаженства, возносящий к вершинам счастья, нет, не так, но как то, без чего дышать нельзя, и, точно утопающий за соломинку, он схватился за ее руку и прижал ее к своему сердцу.
И она все поняла. Горестно, потерянно она почти выкрикнула, точно ответное признание:
— Да, да, Нильс! — и тотчас отняла руку.
Мгновенье она стояла бледная, будто порываясь бежать, потом оперлась коленом о кресло, уткнула лицо в бархатную обивку и громко разрыдалась.
Нильс на несколько секунд будто ослеп и шарил руками между цветочных горшков, ища опоры.
Это продолжалось всего несколько секунд, потом он шагнул к Фениморе, склонился над ней и, не касаясь ее, оперся на спинку кресла.