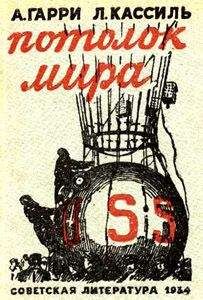Камиль Лемонье - Конец буржуа
Припадки эти начались у нее еще в раннем детстве. Когда, со значительным опозданием, наступила половая зрелость, они на некоторое время прекратились, чтобы потом возобновиться с еще большей силой. Домашний врач заявил, что лучшим лекарством для нее было бы замужество, а тем более материнство. Регулируя все функции организма и направляя их по определенному руслу, оно умиротворяюще действует на здоровье и отлично успокаивает нервы. Но когда Симоне стали говорить о такого рода лечении, она пришла в ужас. Она кинулась в объятия матери, обуреваемая отчаянием и стыдом, умоляя, чтобы ее отправили в монастырь.
К восемнадцати годам ее страх перед мужчинами достиг таких пределов, что при появлении постороннего человека в доме она обычно запиралась у себя в комнате. Она или вовсе отказывалась спуститься вниз, или, появляясь за столом, все время волновалась и держала себя принужденно до такой степени, что, когда однажды Провиньян-сын, который был в доме Жана-Элуа впервые, попробовал было немного за ней поухаживать, с ней сделалась истерика и она стала бить посуду.
Нежная и изощренная, очень чувствительная, но в то же время лукавая и скрытная, стремившаяся все запутать и в силу этого вынужденная постоянно лгать, вечно молчаливая, Симона была загадкой для всех и даже для собственных родителей. Ее противоречивая натура, ее ни с чем не сообразные поступки и непостижимая душа приводили в ужас отца и мать. Они вспоминали, как однажды она стащила у матери драгоценное жемчужное ожерелье и заставила г-жу Рассанфосс заподозрить в краже одну из своих горничных. Симона уверяла даже, что видела это ожерелье у нее в руках. Г-жа Рассанфосс отправилась в комнату горничной, перерыла ее сундуки, нигде ничего не нашла и ни за что ни про что выгнала несчастную девушку из дома. Но, как только ее рассчитали, Симону стали терзать угрызения совести; она, как, впрочем, едва ли не все в ее возрасте, считала, что любой грех может быть прощен, и с этих пор только и делала, что плакала и молилась. Несколько раз ее заставали на коленях перед висевшим у ее кровати изображением божьей матери, слышали, как она рыдает. Г-жа Рассанфосс заподозрила, в чем дело, и стала с особенной настойчивостью ее допрашивать. Тогда Симона кинулась к ее ногам и в конце концов призналась, что она действительно украла ожерелье и зарыла его в горшок с померанцевым деревом в зимнем саду. Из горшка была высыпана вся земля, но там ничего не обнаружили. И, в довершение всего, после всей этой нескончаемой лжи, она принесла ожерелье в спальню матери и спокойно положила его на камин, так и не сказав, где она его прятала. Чувства ее были до того противоречивы и безотчетны, что она долго колебалась перед тем, как вернуть украденную у матери драгоценность, и вместе с тем все время страдала от сознания своей вины и от страха перед муками ада.
В Ампуаньи она оставалась все таким же хмурым и скрытным ребенком. Она по целым дням просиживала в башенке, где была ее комната, и выходила оттуда только побродить по парку или нарвать полевых цветов, из которых она плела венки, украшая ими распущенные волосы, чтобы потом, вернувшись, любоваться в зеркале своим мертвенно-бледным лицом, делавшим ее похожей на царевну из сказки. Она бегала но тропинкам среди пестревших вокруг полевых цветов, ее кисейное платье развевалось по ветру, подобно крыльям какой-нибудь редкостной бабочки, порхающей на лугу, распевая песенки, которые доносились до окон замка; и ее совсем еще детская душа как будто реяла в воздухе, сливаясь с благоуханием сада и солнечными лучами.
Родители старались ей ни в чем не перечить, считая, что это просто детские шалости. В семье Рассанфоссов она была самым хилым цветком, печальною зимнею розой, в которой только чуть теплилась их кровь, когда-то бывшая кровью героев, а теперь уже совершенно не способная дать этой истерзанной тяжелою нервною болезнью девушке нужные для борьбы силы.
Напуганные последним припадком, родители вызвали в Ампуаньи двух светил науки, двух специалистов по нервным болезням — знаменитого Маршандье и доктора Бюшо, которого за грубое обращение и за то, что, оставляя без внимания затейливые жалобы своих изнеженных пациенток, он обращался с ними, как с больными лошадьми, не слишком почтительно прозвали «дамским ветеринаром».
Обоим докторам пришлось около часу гулять по парку, прежде чем отыскали Симону, которая отказалась к ним выйти и где-то спряталась. Наконец, с помощью горничных, которые были отправлены на розыски, ее нашли в глубине одной из буковых аллей.
— Знаете, мадемуазель, мне ведь некогда ждать, пока вы кончите кривляться! — крикнул Бюшо, увидев ее издалека.
Она в это время собирала маргаритки и вплетала их себе в волосы. Этот резкий окрик ее испугал. Она быстро сорвала с головы все эти бледные цветы и, оцепенев от страха, посмотрела на незнакомцев.
— Да подойди же к нам, — позвал ее Жан-Элуа. — Не бойся ничего. Эти господа кое о чем тебя спросят, вот и все.
Особенно страшным показался ей Маршандье — человек очень высокого роста, с крючковатым носом, в белом галстуке. Он стал задавать ей вопросы. Не ощущает ли она иногда, что у нее бегают по спине мурашки? Не замечала ли, что одна часть тела у нее более чувствительна, чем другая? В ответ она только недовольно качала головой — ничего этого у нее не было.
— А как насчет месячных? — отрывисто спросил Бюшо.
На этот раз ее охватил настоящий ужас. Этот человек осмеливался спрашивать ее о таких интимных вещах! С какой-то мальчишеской дерзостью она вдруг показала ему язык и отбежала в сторону, гневно крича:
— У меня ничего нет! У меня ничего нет!
Маршандье обернулся к г-же Рассанфосс:
— Сильная раздражительность, постоянные колебания настроения, не так ли? И, уж конечно, потеря аппетита? Боже мой, сударыня, теперь у молоденьких девушек это самое обычное явление.
— А я вот заставляю их трудиться, копать землю, — сказал Бюшо. — И, представьте, физическая усталость очень хорошо на них действует.
— А не появлялось ли у нее отвращение к мужчинам? — спросил Маршандье.
Г-жа Рассанфосс опустила глаза.
— Пожалуй, что да.
Врачи переглянулись.
— Тут никакого сомнения быть не может, — заявил Бюшо.
Из окон столовой Аделаида видела, как оба врача медленными шагами пошли по аллее, оживленно беседуя. Время от времени они останавливались друг перед другом, скрестив руки, и потом снова продолжали свою прогулку, заложив руки за спину и постукивая тростью по каблукам. Минут через десять они вернулись на террасу. Оба они нашли нужным лечить больную металлоскопией,[6] рекомендовали ей верховую езду, длительные прогулки, гимнастику. Запретили всякое умственное напряжение.
— Чтобы к ней вернулась бодрость духа, ей надо сначала немного поглупеть, — настаивал Бюшо.
Ренье в это время жил в Ампуаньи. Симона ушла к себе в комнату. Она плакала, рвала на себе волосы.
— Почему ты не пришел меня защищать? Взял бы ты большую шпагу, которая висит у Арнольда! Ах, как бы мы с тобой посмеялись, если бы они оба стали на колени и запросили пощады!
Она села в кресло и потом совершенно серьезно сказала, что скорее бросится вниз со своей башенки, чем подчинится чудовищному режиму, который они ей хотят навязать.
— Это ведь ужасно! Они хотят заставить меня глотать разные зелья, какие-то металлы. И требуют еще, чтобы я садилась верхом на лошадь. А ведь я и на стуле трех минут не могу усидеть!
Ее комическое отчаяние забавляло Ренье.
— Да пошли ты их всех к черту. И маму с ними вместе. Просто они ничего не понимают в твоей болезни. Впрочем, в одной ли болезни тут дело?
— Ну вот видишь, вот видишь!.. — воскликнула она с таким странным выражением глаз, как будто в эту минуту видела пролетавшие по воздуху мысли. — Ты же хорошо знаешь, мой большой Ре, что все это ложь, что я совсем не больна. Просто я такая!
— И вообрази только, — торопливо шепнула она ему на ухо, — они мне запретили… Ну-ка, угадай, что?
— Нет, не могу. Мой горб ничего мне не хочет подсказать.
— Обезьяна несчастная, я тебя ненавижу!
Потом она тут же начала ласкаться к нему, шепча:
— Я не хочу, чтобы ты говорил что-нибудь плохое про твой славный горбик. По крайней мере ты не такой, как другие мужчины. И представь только, мама не прочь бы выдать меня замуж! Нет, только ты будешь моим маленьким мужем, я больше никого не хочу. Так, значит, ты не догадываешься?
Она нахмурилась, словно речь шла о какой-то страшной тайне.
— Ну, ладно! — воскликнул Ренье, улыбаясь. — Я уж вижу, что тут что-то очень загадочное и трудное, как всегда. Ты ведь шкатулочка с секретом: без ключа тебя не откроешь.
— Нет, я просто боюсь, что тебе это не покажется таким из ряда вон выходящим.
И очень тихо, придавая своим словам какой-то тайный смысл, понятный ей одной, она продолжала: