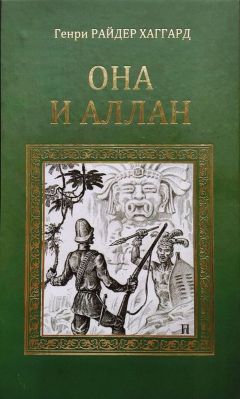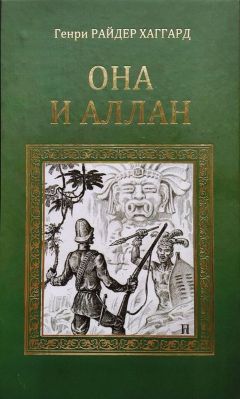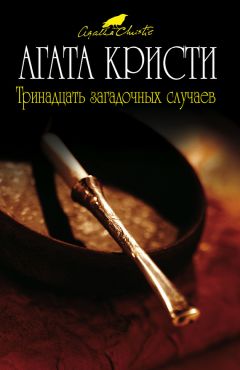Луи Селин - Путешествие на край ночи
— Пошел! — сказал он ему. — Мы в расчете!..
Все его друзья покатились со смеху: так ловко он обделал это дельце. Негр стоял как вкопанный перед прилавком, в своих оранжевых трусиках вокруг чресел.
— Твоя не знает денег? Ты, значит, дикарь? — заговорил с ним, чтобы привести его в чувство, один из оборотистых приказчиков, привыкший к этим решительным сделкам и хорошо вышколенный. — Твоя не говорит по-французски, а? Твоя еще немножко говорила?.. А по-каковски твоя говорит, а? Кус-кус? Мабиллия? Твоя немножко балда? Бушмен! Совсем балда!
Но дикарь не двигался, зажав деньги в кулак. Он и рад бы убежать, да не смел.
— Что ж твоя будет покупать на эти капиталы? — вовремя вмешался «чесотка». — Такого болвана я уже давно не видел все-таки, — снисходительно заметил он. — Издалека пришел, видно! Что ж тебе нужно? Давай деньги!
Без разговоров отобрал он у него деньги и вместо них сунул ему в руку большой очень зеленый платок, который ловко подобрал в каком-то тайнике прилавка.
Негр-отец не знал, уходить ли ему и уносить ли ему платок. Тогда «чесотка» придумал еще лучше. Ему, несомненно, были знакомы все торговые трюки. Размахивая куском зеленого ситца перед носом одной из самых маленьких негритянок, он кричал:
— Нравится тебе это, клоп? Часто ли ты видела, душенька ты моя, падаль моя милая, такие платки?
И, не дожидаясь ответа, он повязал ей шею платком, как бы для того, чтобы прикрыть ее наготу. Теперь вся семья дикарей смотрела на ребенка в этой большой зеленой тряпке… Делать больше было нечего, платок вошел в семью. Оставалось только согласиться, взять его и уйти.
Медленно пятясь, они перешли через порог, и в тот момент, когда отец повернулся, самый удалой из приказчиков, носивший башмаки, пришпорил его, отца, сильным ударом прямо в середину ягодиц.
Все маленькое племя снова сбилось тесной кучкой по другую сторону улицы Федерб и смотрело на нас, пока мы допивали наши рюмки. Казалось, они стараются понять, что с ними только что случилось.
Нас угощал человек с «корокоро». Он даже завел граммофон. В его лавке можно было найти что угодно. Мне это напомнило обозы во время войны.
На службе в компании «Дермонит» одновременно со мной работало, как я уже говорил, в амбарах и на плантациях много негров и белых пареньков, в моем роде. Туземцев можно было привести в действие только кнутом, они сохранили чувство собственного достоинства, белых же, усовершенствованных народным просвещением, подгонять не приходится.
Кнут в конце концов утомляет погонщика, в то время как надежда сделаться богатым и могущественным, которой начинены белые, ничего не стоит, абсолютно ничего. Незачем больше винить Египет и татарских тиранов! Эти древние дилетанты — только лишь мелкие держиморды с претензиями на высокое искусство извлекать из вертикальных, животных максимальное усилие. Эти примитивные люди не знали, что раба можно называть «мосье», давать ему время от времени избирательное право, даровую газету, а главное — посылать его на войну, чтобы успокоить его страсти. Христианин двадцатого века — мне это доподлинно известно, — когда мимо него проходит полк, теряет всякое самообладание. Это вызывает в нем слишком много мыслей.
Что касается меня, то я решил неустанно следить за собой, научиться добросовестно молчать, скрывать мое желание смыться, словом, если только возможно, все-таки преуспеть в компании «Дермонит». Нельзя было терять ни минуты.
Вдоль амбаров у самых илистых берегов безотлучно и тайно сторожили стаи крокодилов. Их металлической природе приятна эта бредовая жара, так же как и неграм.
В самый полдень движение трудившейся в гавани толпы, сутолока горланящих, взбудораженных негров казалась неправдоподобной. На предмет моего обучения нумерованию мешков я должен был перед отъездом в глубину лесов вместе с другими служащими приучаться медленно задыхаться в центральном амбаре компании.
Каждый поднимал свое облачко пыли, которое следовало за ним, как тень. Удары надсмотрщиков падали на великолепные спины негров, не вызывая ни сопротивления, ни жалоб. Пассивность столбняка. Боль переносилась так же просто, как знойный воздух этого горнила.
Время от времени приходил директор, чтобы проверить мои успехи в технике нумерования и обвешивания.
Во время моего стажа в Фор-Гоно у меня оставалось немного свободного времени для прогулок в этом якобы городе, в котором, как я это окончательно выяснил, меня привлекало лишь одно: больница.
Как только куда-нибудь приезжаешь, у вас сейчас же появляется какое-нибудь непреодолимое желание. Мое призвание — болеть, только болеть, и больше ничего. Каждому свое. Я гулял вокруг гостеприимных, многообещающих павильонов, жалобных, уединенных, укромных. С сожалением расставался я с ними и с их дезинфицированным обаянием. Лужайки, оживленные беспокойными разноцветными ящерицами и быстрыми птичками, окружали это убежище. Рай на земле.
Что касается негров, то к ним привыкаешь очень быстро, к ним и их смешливой медлительности, к их слишком длинным жестам, выходящим из берегов животам их женщин. От негритянства несет нищетой, безграничным тщеславием, гнусным смирением. Словом, та же беднота, что и у нас, только детей у них еще больше, меньше грязного белья и красного вина.
Надышавшись всласть, нанюхавшись воздуха вокруг больницы, я шел вслед за толпой туземцев и останавливался против чего-то вроде пагоды, выстроенной трактирщиком на радость эротическим уродцам колонии.
Зажиточные белые в Фор-Гоно просиживали там ночи за картами, опрокидывая рюмочки, зевая и рыгая в свое удовольствие. Штаны ужасно мешали этим уродцам чесаться, помочи беспрестанно сваливались.
Под вечер целая толпа выползала из домиков туземной части города и собиралась около пагоды, без устали слушая и наблюдая за белыми, пока те кривлялись вокруг механического пианино, которое страдающе выдавливало из себя фальшивые вальсы. Хозяйка слушала музыку с таким видом, будто она вот-тот, исполненная блаженства, пустится в пляс.
После многих тщетных попыток мне наконец удалось несколько раз потихоньку с нею переговорить. Она мне призналась, что менструации у нее продолжаются не менее трех недель. Влияние тропиков. Кроме того, ее изнуряли гости. Не то чтобы они так часто ею пользовались, но так как напитки в пагоде стоили довольно дорого, они за свои деньги щипали ее за ягодицы, перед тем как уйти. От этого она, собственно, и уставала.
Этой коммерсантке были известны все любовные истории, которые с отчаянья завязывались между измученными жарой офицерами и женами чиновников, которые тоже таяли от бесконечных менструаций, сокрушаясь на верандах и утопая в глубинах отлогих кресел.
Я обошел еще раз моих товарищей по службе, пытаясь узнать хоть что-нибудь об этом вероломном служащем, которого я должен был во что бы то ни стало заменить, согласно приказу, в его лесу. Безрезультатно. Пустая болтовня.
Кафе «Федерб» в конце улицы Фашода шелестело, начиная с сумерек, сплетнями, злословием, клеветой, но не приносило мне ничего нового. Одни лишь впечатления.
Все автомобили Фор-Гоно, штук десять всего, сновали взад и вперед перед террасой кафе. Казалось, что далеко они никогда не отправляются.
Так вот они и ходят, эти колонисты, до тех пор, пока не перестают даже глядеть друг на друга; до того им надоедает друг друга ненавидеть. Некоторые офицеры водят с собой семью, внимательно следя за военными и штатскими поклонами, супругу, распухшую от специальных гигиенических бинтов, детей, убогих европейских червей, растворяющихся от жары и постоянного поноса.
Для того чтобы командовать, недостаточно кепи, нужны еще и войска. В климате Фор-Гоно европейские кадры таяли быстрее масла. Батальон там — как сахар в кофе: чем дольше на него смотришь, тем меньше его видно. Большинство постоянно находилось в госпитале, доверху налитое малярией и начиненное паразитами на каждом волосе, в каждой складке. В дурмане лихорадочного мертвого часа так жарко, что даже мухи отдыхают. В бескровных волосатых руках висят по обе стороны кроватей просаленные романы, всегда без начала и конца, с вырванными страницами из-за страдающих дизентерией, которым никогда не хватает бумаги, а также из-за цензуры сердитых монахинь, когда в книге непочтительно отзываются о Господе Боге. Армейские площицы мучат монашек точно так же, как и всех прочих. Они уходят за ширму, где сегодняшний покойник еще не успел остыть — так ему было жарко, — и задирают там юбки, чтобы удобнее было чесаться.
Несмотря на всю свою мрачность, больница была единственным местом, где люди о тебе забывали, куда можно было спрятаться от людей, и единственное доступное мне счастье.
Я справился об условиях поступления, о привычках врачей, об их маниях. К моему отъезду в лес я относился с отчаянием и возмущением и уже решил схватить все лихорадки, которые мне встретятся, чтобы вернуться в Фор-Гоно больным и исхудавшим, до того отвратительным, что им придется не только принять меня, но еще и вернуть на родину. Я уже был знаком со всякими трюками, великолепными трюками, чтобы заболеть, и научился еще новым, специально для колонии.