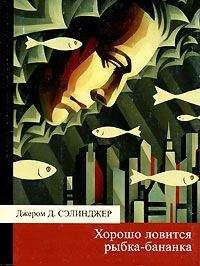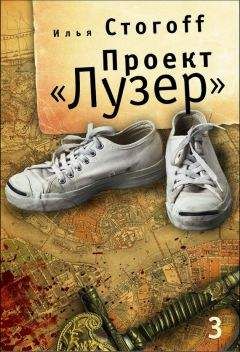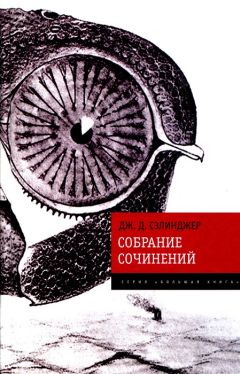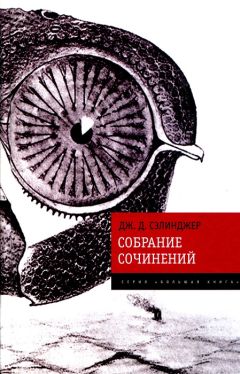Джером Сэлинджер - Девять рассказов
Несмотря на небольшой размер, примерно десять на двенадцать дюймов, на картине очень подробно и тщательно было изображено перенесение тела Христа в пещеру сада Иосифа Аримафейского. На переднем плане, справа, два человека, очевидно слуги Иосифа, довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел за ними. В этой ситуации он, пожалуй, держался слишком прямо. За ним на почтительном расстоянии среди разношерстной, возможно явившейся без приглашения, толпы плакальщиц, зевак, детей шли жены галилейские, а около них безбожно резвилось не меньше дворняжек.
Но больше всех привлекла мое внимание женская фигура на переднем плане, слева, стоявшая лицом к зрителю. Вскинув правую руку, она отчаянно махала кому-то — может быть, ребенку или мужу, а может, и нам, зрителям, — бросай все и беги сюда. Сияние окружало головы двух женщин, идущих впереди толпы. Под рукой у меня не было Евангелия, поэтому я мог только догадываться, кто они. Но Марию Магдалину я узнал тотчас же. Во всяком случае, я был убежден, что это она. Она шла впереди, поодаль от толпы, уронив руки вдоль тела. Горе свое она, как говорится, напоказ не выставляла — по ней совсем не было видно, насколько близко ей был Усопший в последние дни. Как все лица, и ее лицо было написано дешевой краской телесного цвета. Но было до боли ясно, что сестра Ирма сама поняла, насколько не подходит эта готовая краска, и неумело, но от всей души попыталась как-то смягчить тон. Других серьезных недостатков в картине не было. Вернее сказать, всякая критика уже была бы придиркой. По моим понятиям, это было произведение истинного художника, с печатью высокого и в высшей степени самобытного таланта, хотя одному богу известно, сколько упорного труда было вложено в эту картину.
Первым моим побуждением было — броситься с рисунками сестры Ирмы к мосье Йошото. Но я и тут не встал с места. Не хотелось рисковать — вдруг сестру Ирму отнимут у меня? Поэтому я аккуратно закрыл конверт и отложил в сторону, с удовольствием думая, как вечером, в свободное время, я поработаю над ее рисунками. Затем с терпимостью, которой я в себе и не подозревал, я великодушно и доброжелательно стал править обнаженную натуру — мужчин и женщин (sans [17] признаков пола), жеманно и непристойно изображенных Р. Говардом Риджфилдом. В обеденный перерыв я расстегнул три пуговки на рубашке и засунул конверт сестры Ирмы туда, куда было не добраться ни ворам, ни — тем более! — самим супругам Йошото.
Все вечерние трапезы в школе происходили по негласному, но нерушимому ритуалу. Ровно в половине шестого мадам Йошото вставала и уходила наверх готовить обед, а мы с мосье Йошото обычно гуськом приходили туда же ровно в шесть. Никаких отклонений с пути, хотя бы они и были вызваны требованиями гигиены или неотложной необходимости, не полагалось. Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшем у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным. Больше того, за этим обедом я был настоящей душой общества. Я рассказал про Пикассо такой анекдот, пальчики оближешь! — пожалуй, было бы нелишне приберечь его на черный день. Мосье Йошото только слегка опустил свою японскую газету, зато мадам как будто заинтересовалась; во всяком случае, полного отсутствия интереса заметно не было. А когда я окончил, она впервые обратилась ко мне, если не считать утреннего вопроса: не хочу ли я съесть яйцо? Она спросила: может быть, мне все-таки поставить стул в комнату? Я торопливо ответил: «Non, non, merci, madame». Я объяснил, что всегда придвигаю циновки к стене и таким образом приучаюсь держаться прямо, а мне это очень полезно. Я даже встал, чтобы продемонстрировать, до чего я сутулюсь.
После обеда, когда чета Йошото обсуждала по-японски какой-то, может быть и весьма увлекательный, вопрос, я попросил разрешения уйти из-за стола. Мосье Йошото взглянула на меня так, будто не совсем понимала, каким образом я очутился у них на кухне, но кивнул в знак согласия, и я быстро прошел по коридору к себе в комнату.
Включив полный свет и заперев двери, я вынул из кармана свои карандаши, потом снял пиджак, расстегнул рубаху и, не выпуская конверт сестры Ирмы из рук, сел на пол, на циновку. Почти до пяти утра, разложив все, что надо, на полу, я старался оказать сестре Ирме в ее художественных исканиях ту помощь, в какой она, по моему убеждению, нуждалась.
Первым делом я набросал штук десять-двенадцать эскизов карандашом. Не хотелось идти в преподавательскую за бумагой, и я рисовал на своей собственной почтовой бумаге с обеих сторон. Покончив с этим, я написал длинное, бесконечно длинное письмо.
Всю жизнь я коплю всякий хлам, не хуже какой-нибудь сороки-неврастенички, и у меня до сих пор сохранился предпоследний черновик письма, написанного сестре Ирме в ту июньскую ночь 1939 года. Я мог бы дословно переписать все письмо, но это лишнее. Множество страниц — а их и вправду было множество — я посвятил разбору тех незначительных ошибок, которые она допустила в своей главной картине, особенно выборе красок. Я перечислил все принадлежности, необходимые ей как художнику, с указанием их приблизи-тельной стоимости. Я спросил, кто такой Дуглас Бантинг. Я спросил, где я мог бы посмотреть его работы. Я спросил ее (понимая, что это политика дальнего прицела), видела ли она репродукции с картин Антонелло да Мессина. Я спросил ее — напишите мне, пожалуйста, сколько вам лет, и пространно уверил ее, что сохраню в тайне эти сведения, ежели она их мне сообщит. Я объяснил, что справляюсь об этом по той причине, что мне так будет легче подобрать наиболее эффективный метод преподавания. И тут же, единым духом, я спросил, разрешают ли принимать посетителей в монастыре.
Последние строки, вернее последние кубические метры моего письма, лучше всего воспроизвести дословно, не изменяя ни синтаксис, ни пунктуацию.
"… Если вы владеете французским языком, прошу вас поставить меня в известность, так как лично я умею более точно выражать свои мысли на этом языке, прожив большую часть своей молодости в Париже, Франция.
Очевидно, вы весьма заинтересованы в том, чтобы научиться рисовать бегущих человечков и впоследствии передать технику этого рисунка своим ученицам в монастырской школе. Прилагаю для этой цели несколько набросков, может быть, они вам пригодятся. Вы увидите, что сделаны они наспех, очень далеки от совершенства и подражать им не следует, но надеюсь, что вы увидите в них те основные приемы, которые вас интересуют. Боюсь, что директор наших курсов не придерживается никакой системы в преподавании. К несчастью, это именно так. Вашими успехами я восхищаюсь, вы уже далеко пошли, но я совершенно не представляю себе, чего он хочет от меня и как мне быть с другими учащимися, людьми умственно отсталыми и, по моему мнению, безнадежно тупыми.
К сожалению, я агностик. Однако я поклонник святого Франциска Ассизского, хотя — что само собой понятно — чисто теоретически. Кстати, известно ли вам досконально, что именно он (Франциск Ассизский) сказал, когда ему собирались выжечь глаз каленым железом? Сказал он следующее: «Брат огонь, Бог дал тебе красоту и силу на пользу людям, молю же тебя — будь милостив ко мне». В ваших картинах есть что-то очень хорошее, напоминающее его слова, так мне, по крайней мере, кажется. Между прочим, разрешите узнать, не является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной? Я говорю о картине, которую мы только что обсудили. Если нет, значит, я глубоко заблуждаюсь. Впрочем, мне это свойственно.
Надеюсь, что вы будете считать меня в полном вашем распоряжении, пока вы обучаетесь на курсах «Любители великих мастеров». Говоря откровенно, я считаю вас необыкновенно талантливой и ничуть не удивлюсь, если в самом ближайшем будущем вы станете великим художником. По этой причине я и спрашиваю вас, является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной, потому что если это так, то боюсь, что в ней больше выражен ваш врожденный талант, чем ваши религиозные убеждения. Однако, по моему мнению, бояться тут нечего.
С искренней надеждой, что мое письмо застанет вас в добром здравии, остаюсь
Уважающий вас (тут следовала подпись) Жан де Домье-Смит, штатный преподаватель курсов «Любители великих мастеров».
Постскриптум. Чуть не забыл предупредить вас, что слушатели обязаны представлять в школу свои работы каждые две недели, по понедельникам. В качестве первого задания попрошу вас сделать несколько набросков с натуры. Пишите свободно, без напряжения. Разумеется, я не осведомлен, сколько свободного времени уделяют вам в вашем монастыре для личных занятий искусством, и прошу поставить меня об этом в известность. Также прошу вас приобрести те необходимые пособия, которые я имел смелость перечислить выше, так как я хотел бы, чтобы вы начали писать маслом как можно скорее. Простите меня, если я скажу прямо, но мне кажется, что вы натура страстная, порывистая, и вам надо писать не акварелью, а скорее переходить на масло. Говорю это в совершенно отвлеченном смысле, вовсе не желая вас обидеть, наоборот, я считаю это похвалой. Прошу вас также переслать мне все ваши прежние работы, какие только сохранились, я жажду увидеть их поскорее. Не стану говорить, как невыносимо для меня будут тянуться дни, прока не придет ваше письмо.