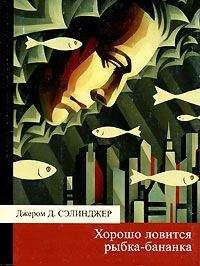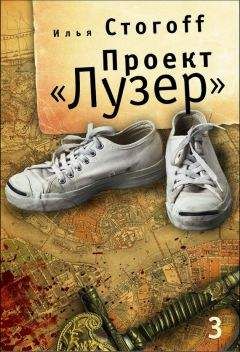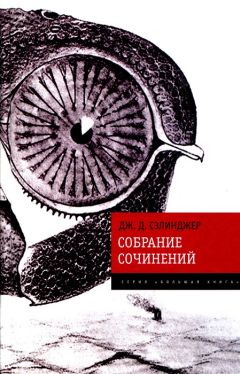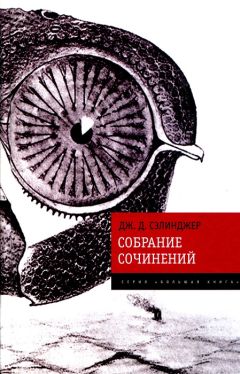Джером Сэлинджер - Девять рассказов
Возвращаясь к «Les Amis de Vieux Maitres», я ощутил сначала привычную смутную тревогу — правда, с ней я, по прошлому опыту, более или менее умел справляться, но тут она перешла в настоящий страх: неужели мои личные качества тому виной, что мосье Йошото не нашел для меня лучшего дела, чем эти переводы? Неужто старый Фу Маньчжу раскусив меня, понял, что я не только хотел сбить его с толку всякими выдумками, но что я, девятнадцатилетний мальчишка, и усы отрастил для того. Думать об этом было невыносимо. Вера моя в справедливость медленно подтачивалась. В самом деле, меня, меня, получившего три первые премии, меня, личного друга Пикассо (я уже сам начал в это верить), меня использовать как переводчика! Мое преступление никак не заслужило такого наказания. И вообще эти усики, пусть жидкие, но мои собственные, разве они наклеены? Для успокоения я все время по дороге на курсы теребил их пальцами. Но чем больше я думал о своем положении, тем быстрее я шел и под конец уже бежал бегом, будто боясь, что меня со всех сторон вот-вот забросают камнями.
Хотя я потратил на завтрак всего минут сорок, чета Йошото уже сидела за столами и работала. Они не подняли глаз, не подали виду, что заметили, как я вошел. Потный, запыхавшийся, я сел за свой стол. Минут пятнадцать — двадцать я сидел, вытянувшись в струнку и придумывая новехонькие анекдотцы про старика Пикассо на тот случай, если мосье Йошото вдруг поднимется и станет меня разоблачать меня. И тут он действительно поднялся и пошел ко мне. Я встал, готовый, если понадобится, встретить его в упор свеженькой сплетней про Пикассо, но, когда он подошел к столу, все, что я придумал, к моему ужасу, вылетело у меня из головы. Но я воспользовался моментом, чтобы выразить свой восторг по поводу изображения гуся в полете, висящего над столом мадам Йошото. Я рассыпался в самых щедрых похвалах. Я сказал, что у меня в Париже есть знакомый богач — паралитик, как я объяснил, — который не пожалеет никаких денег за картину мосье Йошото. Я сказал, что если мосье Йошото согласен, я могу немедленно связаться с Парижем. К счастью, мосье Йошото объяснил, что картина принадлежит его кузену, гостящему сейчас у родных в Японии. И тут же, прежде чем я успел выразить сожаление, он, назвав меня «мосье Домье-Смит», спросил, не буду ли я так добр исправить несколько заданий. Он пошел к своему столу и вернулся с тремя огромными пухлыми конвертами. Я стоял, обалделый, машинально кивая головой и ощупывая карман пиджака, куда я засунул все карандаши. Мосье Йошото объяснил мне метод преподавания на курсах (вернее было сказать, отсутствие всякого метода). Он вернулся к своему столу, а я все еще никак не мог прийти в себя.
Все три ученика писали нам по-английски. Первый конверт прислала двадцатитрехлетняя домохозяйка из Торонто — она выбрала себе псевдоним Бэмби Кремер, — так ей и надлежало адресовать письма. Все вновь поступающие на курсы «Любители великих мастеров» должны были заполнить анкету и приложить свою фотографию. Мисс Кремер приложила большую глянцевую фотокарточку, восемь на девять дюймов, где она была изображена с браслетом на щиколотке, в купальном костюме без бретелек и в белой морской бескозырке. В анкете она сообщила, что ее любимые художники Рембрандт и Уолт Дисней. Она писала, что надеется когда-нибудь достичь их славы. Образцы рисунков были несколько пренебрежительно подколоты снизу к ее портрету. Все они вызывали удивление. Но один был незабываемым. Это незабываемое произведение было выполнено яркими акварельными красками, с подписью, гласившей: «И прости им прегрешения их». Оно изображало трех мальчуганов, ловивших рыбу в каком-то странном водоеме, причем чья-то курточка висела на доске с объявлением: «Ловля рыбы воспрещается». У самого высокого мальчишки на переднем плане одна нога была поражена рахитом, другая — слоновой болезнью — очевидно, мисс Кремер таким способом старалась показать, что он стоит, слегка расставив ноги.
Вторым моим учеником оказался пятидесятишестилетний «светский фотограф», по имени Р. Говард Риджфилд, из города Уиндзор, штат Онтарио. Он писал, что его жена годами не дает ему покоя, требуя, чтобы он тоже «втерся в это выгодное дельце» — стал художником. Его любимые художники — Рембрандт, Сарджент и «Тицян», но он благоразумно добавлял, что сам он в их духе работать не собирается. Он писал, что интересуется скорее сатирической стороной живописи, чем художественной. В поддержку своего кредо он приложил изрядное количество оригинальных произведений — масло и карандаш. Одна из его картин — по-моему, главный его шедевр — навеки врезалась мне в память: так привязываются слова популярных песенок. Это была сатира на всем знакомую, будничную трагедию невинной девицы, с длинными белокурыми локонами и вымеобразной грудью, которую преступно соблазнял в церкви, так сказать, прямо под сенью алтаря, ее духовник. Художник графически подчеркнул живописный беспорядок в одежде своих персонажей. Но гораздо больше, чем обличительный сатирический сюжет, меня потрясли стиль работы и характер выполнения. Если бы я не знал, что Риджфилд и Бэмби Кремер живут на расстоянии сотен миль друг от друга, я поклялся бы, что именно Бемби Кремер помогала Риджфилду с чисто технической стороны.
Не считая исключительных случаев, у меня в девятнадцать лет чувство юмора было самым уязвимым местом и при первых же неприятностях отмирало иногда частично, а иногда полностью. Риджфилд и мисс Кремер вызвали во мне множество чувств, но не рассмешили ни на йоту. И когда я просматривал их работы, меня не раз так и подмывало вскочить и обратиться с официальным протестом к мосье Йошото. Но я не совсем представлял себе, в какой форме выразился бы этот протест. Должно быть, я боялся, что, подойдя к его столу, я закричу срывающимся голосом: "У меня мать умерла, приходится жить у ее милейшего мужа, и в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, а в комнате вашего сына даже стульев нет! Как же вы хотите, чтобы я учил этих двух идиотов рисовать? "
Но я так и не встал с места — настолько я приучил себя сдерживать приступы отчаяния и не метаться зря. И я открыл третий конверт.
Третьей моей ученицей оказалась монахиня женского монастыря Святого Иосифа, по имени сестра Ирма, преподававшая «кулинарию и рисование» в начальной монастырской школе, неподалеку от Торонто. Не знаю, как бы лучше начать описание того, что было в ее конверте. Во-первых, надо сказать, что вместо фотографии сестра Ирма без всяких объяснений прислала вид своего монастыря. Помнится также, что она не заполнила графу «возраст». Но с другой стороны, ни одна анкета в мире не заслуживает, чтобы ее заполняли так, как заполнила ее сестра Ирма. Она родилась и выросла в Детройте, штат Мичиган, ее отец «в миру» служил «в отделе контроля автомашин». Кроме начального образования, она еще год проучилась в средней школе. Рисованию нигде не обучалась. Она писала, что преподает рисование лишь потому, что сестра такая-то скончалась, и отец Циммерман (я особенно запомнил эту фамилию, потому что так звали зубного врача, вырвавшего мне восемь зубов), — отец Циммерман выбрал ее в заместительницы покойной. Она писала, что у нее в классе кулинарии 34 крошки, а в классе рисования 18 крошек. Любит она больше всего «Господа и Слово божье» и еще любит «собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю». Любимым ее художником был Дуглас Бантинг (сознаюсь, что я много лет искал такого художника, но и следа не нашел). Она писала еще, что ее крошки «любят рисовать бегущих человечков, а я этого совсем не умею». Она писала, что будет очень стараться, чтобы научиться лучше рисовать, и надеется, что «мы будем к ней снисходительны».
В конверт были вложены всего шесть образцов ее работы. (Все они были без подписи — само по себе это мелочь, но в тот момент мне необычайно понравилось.) И Бэмби Кремер, и Риджфилд ставили под картинами свою подпись или — что меня раздражало еще больше — свои инициалы. С тех пор прошло тринадцать лет, а я не только ясно помню все шесть рисунков сестры Ирмы, но четыре из них я вспоминаю настолько отчетливо, что это иногда нарушает мой душевный покой. Лучшая ее картина была написана акварелью на оберточной бумаге. (На коричневой оберточной бумаге, особенно на очень плотной, писать так удобно, так приятно. Многие серьезные мастера писали на ней, особенно когда у них не было какого-нибудь грандиозного замысла.)
Несмотря на небольшой размер, примерно десять на двенадцать дюймов, на картине очень подробно и тщательно было изображено перенесение тела Христа в пещеру сада Иосифа Аримафейского. На переднем плане, справа, два человека, очевидно слуги Иосифа, довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел за ними. В этой ситуации он, пожалуй, держался слишком прямо. За ним на почтительном расстоянии среди разношерстной, возможно явившейся без приглашения, толпы плакальщиц, зевак, детей шли жены галилейские, а около них безбожно резвилось не меньше дворняжек.