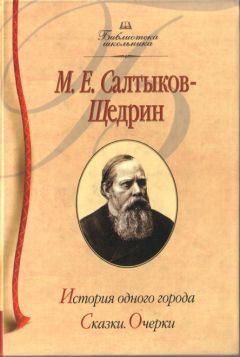Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 1-5
Но какими бы побуждениями ни руководствовался Мельхиор, взбучка, заданная им Кристофу, была для мальчика полезна, так как хоть немного его отрезвила, иначе он рисковал совсем утратить здравый смысл под влиянием дедушкиных похвал. К сожалению, она еще мало подействовала: Кристоф не преминул рассудить, что просто дедушка умнее отца; и если после отцовской нотации мальчик безропотно уселся за рояль, то отнюдь не из послушания, а только потому, что ему хотелось помечтать всласть, как он часто делал, пока его пальцы машинально бегали по клавишам. Он разыгрывал бесконечные упражнения, а сам все время слышал внутренний голос, горделиво повторявший: «Я композитор, я великий композитор!»
Раз композитор, значит, надо сочинять. И с этого дня Кристоф усердно принялся марать бумагу. Он не умел еще толком писать буквы, но целыми часами старательно вырисовывал четверти и восьмые на листках, вырванных из тетрадки, в которой Луиза записывала хозяйственные расходы. Однако попытки понять свою мысль и потом ее записать стоили ему такого труда, что под конец в голове у него не оставалось вовсе никаких мыслей, кроме мысли о том, что он хочет иметь какую-нибудь мысль. Все же он упрямо продолжал лепить музыкальные фразы, и так как он был прирожденным музыкантом, это ему кое-как удавалось, хотя фразы эти ровно ничего не значили. Затем он с торжеством нес их дедушке, и тот плакал от умиления — слезы легко приходили к дряхлеющему старику — и объявлял, что это гениально.
Так можно было бы вконец испортить мальчика. К счастью, его спас природный здравый смысл и влияние одного человека, который, однако, ни на кого не стремился оказывать влияние и сам никак не мог служить образцом здравого смысла, по крайней мере с точки зрения окружающих. Это был брат Луизы.
Как и сестра, он был невелик ростом, тщедушный, хилый, сгорбленный. Неизвестно, сколько ему было лет, — во всяком случае, лишь ненамного перевалило за сорок, но по виду ему давали пятьдесят и даже больше. У него было маленькое румяное лицо, все в морщинках, и добрые голубые глаза, очень светлые, как поблекшие незабудки. Он постоянно ходил в шапке, из страха перед сквозняками, а когда решался ее снять, под ней обнаруживалась совершенно лысая, розовая и заостренная кверху голова; ее странный вид до крайности потешал Кристофа и его братьев. Поощряемые грубыми шутками Мельхиора, они вечно приставали к дяде, допрашивали, куда он девал свои волосы, грозились отшлепать его по лысине. Он сам первый смеялся и терпеливо сносил все их шалости. По ремеслу он был бродячий торговец: ходил по деревням с огромным тюком за плечами, а в тюке было всего понемногу — бакалея, галантерея и письменные принадлежности, платки, шали, башмаки, консервы, календари, песенники, конфеты и пилюли. Крафты не раз пытались устроить его где-нибудь оседло, покупали ему запас товаров, снимали для него помещение под мелочную лавочку или маленький галантерейный магазин. Но он не мог долго усидеть на месте; как-нибудь утром он вставал еще до света, прятал ключ под порогом и исчезал вместе со своим тюком. Месяц, два о нем не было слышно; вдруг как-нибудь вечером раздавался робкий стук, дверь приотворялась, в щелку просовывалась маленькая лысая голова — без шапки, как того требует вежливость, — показывалось знакомое лицо с добрыми глазами и застенчивой улыбкой. «Привет всей компании», — говорил он, старательно обтирал ноги, здоровался со всеми по очереди, начиная с самого старшего, и скромно усаживался в уголке. Потом закуривал трубку и, смиренно сгорбившись, пережидал, пока истощится запас грубых шуток, которыми его всегда встречали у Крафтов. И Мельхиор и Жан-Мишель относились к нему с насмешливым презрением. Этот недоносок казался им пародией на человека; к тому же странствующий торговец! Такое ничтожное положение! Их гордость была уязвлена, и они без стеснения давали ему это почувствовать. Но он как будто ничего не видел и всегда проявлял к ним величайшую почтительность; и это обезоруживало их, в особенности Жан-Мишеля, чувствительного к любым знакам уважения. Поэтому они ограничивались шутками, но уж шуточки были такие, что Луизу от них нередко бросало в краску. Привыкнув склоняться перед умственным превосходством Крафтов, она и в этом случае не подвергала сомнению правоту мужа и свекра, но она горячо любила брата, а тот питал к ней молчаливое обожание. Их только двое осталось от всей семьи — оба смиренные, незаметные, сломленные жизнью; из общего горя, которое они переносили без жалоб, и взаимного сострадания родилась грустная и нежная привязанность. Среди Крафтов, шумных и грубых здоровяков, отлично приспособленных к тому, чтобы наслаждаться всеми благами жизни, эти два кротких и слабых существа были как бы вне мира, вне жизни или где-то сбоку — не мудрено, что они без слов понимали и жалели друг друга.
Кристоф с бездумной жестокостью детства разделял презрение отца и деда к маленькому торговцу. Он заставлял его играть роль шута, донимал всякими дурачествами, которые тот переносил с невозмутимым спокойствием. А вместе с тем Кристоф любил его, сам того не сознавая, любил прежде всего как безответную игрушку, с которой можно делать все, что вздумается; любил также и за то, что дядя всегда припасал для Кристофа что-нибудь приятное — лакомство, картинку, забавную выдумку. Возвращение дяди было праздником для детей: они так и ожидали какого-нибудь сюрприза и никогда не обманывались. При всей своей бедности он ухитрялся каждому сделать подарок, и не было случая, чтобы он забыл чей-нибудь день рождения. Когда наступала торжественная дата, дядя Готфрид был уже тут как тут и вынимал из кармана какую-нибудь хорошенькую, с любовью выбранную вещицу. Все так к этому привыкли, что даже не считали нужным благодарить; да разве и не было для него достаточной наградой то удовольствие, которое он сам получал от своих подарков? Но Кристоф, который спал плохо и часто по ночам перебирал в уме события дня, додумывался иногда до мысли, что дядя очень добр, и его охватывал порыв благодарности к этому скромному человеку. Впрочем, эти чувства редко доживали до утра; днем Кристоф только о том и думал, как бы посмеяться над дядей. Да и вообще он был еще слишком мал и не умел ценить доброту; для ребенка добрый и глупый почти одно и то же, и дядя Готфрид казался живым подтверждением этой истины.
Раз вечером Готфрид, оставшись один, — Мельхиор обедал в гостях, а Луиза укладывала малышей, — спустился к реке и сел на берегу недалеко от дома. Кристоф от нечего делать поплелся за дядей и, по обыкновению, начал теребить его, как разыгравшийся щенок; наконец, запыхавшись, он повалился наземь у ног дяди и, растянувшись на животе, зарылся лицом в траву. Отдышавшись, он стал придумывать, что бы еще сказать почуднее, и, придумав, выкрикнул найденное слово, корчась от смеха. Никто ему не ответил. Удивленный этим молчанием, он поднял голову, намереваясь повторить свою остроту, и увидел лицо дяди, освещенное последними отблесками заката, угасавшего в золотом дыму. Слова замерли на устах у Кристофа. Готфрид улыбался; глаза его были почти сомкнуты, губы приоткрылись, болезненные черты хранили неизъяснимо печальное и торжественное выражение. Кристоф молча смотрел, приподнявшись на локте. Вечерело; лицо Готфрида мало-помалу растворялось в сумерках. Стояла ненарушимая тишина. Таинственные чувства, отражавшиеся на лице Готфрида, постепенно завладевали и Кристофом. Он погрузился в какое-то оцепенение. Тень одевала землю, но небо было ясное; зажигались звезды. На берег с чуть слышным плеском набегали мелкие волны. Рядом звенел сверчок. Кристоф вяло жевал травинки, невидимые в темноте; его все больше одолевала дрема, — казалось, еще минута, и он заснет… Вдруг в темноте Готфрид запел. Он пел слабым надтреснутым голосом, словно про себя; в десяти шагах его, пожалуй, никто бы не услышал. Но в его пении была волнующая искренность: казалось, он думает вслух, и сквозь звуки песни, как сквозь прозрачную воду, можно увидеть его душу до самого дна. Никогда еще Кристоф не слышал, чтобы так пели. И такой песни он никогда не слыхал. Медленная, детски простая по напеву, грустная, чуть-чуть монотонная, она шла задумчивой поступью, никуда не спеша, то умолкала надолго, то снова пускалась в путь, не думая о цели, теряясь в ночи… Казалось, она пришла из бесконечной дали и уходит неведомо куда. В ее безмятежности была тайная тревога; под внешним спокойствием дремала извечная боль… Кристоф не дышал, он не смел шелохнуться, он весь похолодел от волнения. Когда песня умолкла, он подполз к Готфриду.
— Дядя… — с трудом выговорил он; спазма сжимала ему горло.
Готфрид не ответил.
— Дядя! — повторил мальчик, опершись руками и подбородком на колени Готфрида.
Ласковый голос откликнулся ему:
— Что, деточка?
— Дядя! Что это такое, скажи? Что это ты пел?