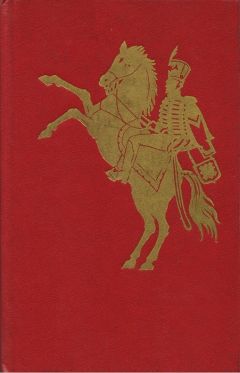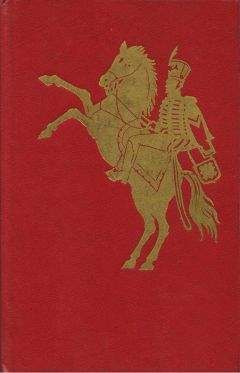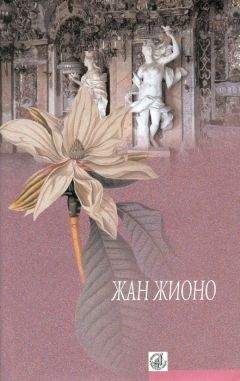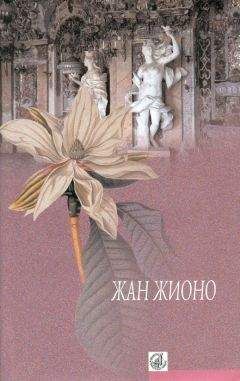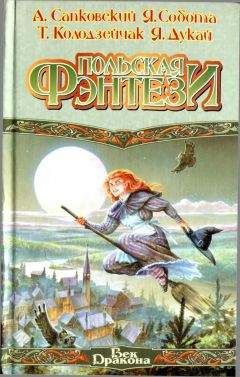Жан Жионо - Польская мельница
Я весьма удивился, когда заметил, что Леонс уже твердо стоит на своих ногах. У меня было впечатление, что он лишь вчера появился на свет. А ему было уже пять лет.
Мы своими процессами ничего не добились. Я, как говорится, отдал им лучшие годы жизни, а приобрел только некоторые связи, которые тогда завязал, да еще умение вести судебные дела (которое использовал несколько раз и для собственных интересов, но с осторожностью).
Несмотря ни на что, нам достались кусок бесплодной земли, служившей пастбищем, и овчарня, расположенная у оконечности холмов. Все вместе стоило около двух сотен экю. За исключением этого, Коммандери развеялось в прах. Но сам факт произвел большое впечатление на город. Крестьяне говорили про г-на Жозефа, что это «славный человек».
Я не уделил бы Леонсу и пяти минут внимания, если бы не сознавал того значения, какое придавал ребенку г-н Жозеф. Это был для него «Бог, который делал погоду». Я немало позаботился о том, чтобы досконально изучить мальчика.
Этот человек, с его страстями, со способностью к ненависти и с огромной жизненной энергией, день за днем с ангельским терпением воспитывал сына. Все началось задолго до того, как я взял на себя труд заметить, к чему это ведет.
Леонс сделался очень красивым мальчиком — и печальным.
Век клонился к легкости в чувствах. Он же продолжал помещать их на недосягаемую высоту. Он задыхался, истекал потом и изводил себя там, где другие шли по накатанной дорожке в мягких сапогах и в шелковой рубахе. В этом была отвага его отца и романтизм матери. И еще немало чего досталось ему от Костов. Среди прочего была и выдающаяся способность скрывать свои чувства. Понятно, и речи не шло о том, чтобы обратить ее себе во благо; он использовал ее лишь для того, чтобы полностью скрыть очень значительную сторону своей натуры — ее лучшую сторону. Поэтому отношения с ним всегда бывали испорчены, и испорчены непоправимо: ведь из-за отчаянной отваги (слагавшейся большей частью из гордости) он скорее позволил бы отрубить себе голову, чем выказать то, что могло принести ему успех или восхищение.
Он посвящал жизнь, целиком и совсем без остатка, идеалу, строго следующему форме и формуле, на земле обычно недостижимому (в этом круге понятий он обладал поразительной наивностью); у него были все желаемые силы, все терпение, все мужество, которые необходимы, чтобы непоколебимо упорствовать в своем решении, не принимая в расчет ни риск, ни опасность.
Его характер, необычайно твердый во всем, что касалось его фантазий, не позволял ему допускать никакой слабости, когда дело касалось того, чтобы напрячь все силы в попытках их воплотить. Он разрешал себе единственную слабость: одиночество, к которому склонял его нрав. Он мог сколь угодно долго жить один, но надо было быть лишенным малейших признаков ума, чтобы не обнаружить в нем необыкновенную жажду любви, скрывавшуюся под напускной презрительностью.
Воображение у Леонса было очень живое, и, должен сказать, много раз оно меня просто пугало. Этот юноша (ибо я распознал такую черту в его характере, когда он был еще юношей) не видел и так никогда и не увидел реального мира.
Он сам творил себе все, в чем нуждался: чистоту, верность, величие души. В абсолютном одиночестве, в которое он себя заключил, это было несложно. (Как он, питавший отвращение к легкости и настолько требовательный к себе, не замечал, что избрал тем самым самый легкий окольный путь?) Нужно одолеть огромнейшие трудности, чтобы жить в реальном мире: грязном, лживом и заурядном.
В пору первых сражений, которые молодой человек, наделенный его достоинствами, добрым именем, красотой и благородством, должен вести с миром (и там, где любой другой, похоже, мог добиться победы с закрытыми глазами), он проигрывал при каждом ударе. В нем были сила и ясность духа отца, но также и его необузданность (как и необузданность его дяди Жана), и страстное желание самых триумфальных побед, и потребность в какой-то торжественности, была та царская щедрость, которая жаждет излиться (с присущим этому кругу понятий отсутствием чувства меры, которое заставляло его добавлять к деньгам еще и любовь, дружбу, преданность, заставляло приносить себя в дар всего, без остатка, — то, что досталось ему от матери); но он происходил из семьи, проглядевшей глаза, в упор рассматривая смерть, и Жюли передала ему близорукость сердца, которая не позволяла ему увидеть, где же находится мишень. Все его удары били мимо цели. Пока заботливые родители, какими были его отец с матерью, заметили, что он слишком горд, чтобы звать на помощь, он успел обзавестись многими ранами, которые потом долго не заживали (самые глубокие из них даже гноились).
Само собой разумеется, если поразмыслить, это была естественная склонность, и все хорошо согласовывалось между собой. Наряду с настоящей мишенью, которой он никогда не замечал, он выдумывал себе мнимую мишень, которую и поражал без промаха. Поскольку он любил все прекрасное — я в этой связи думаю о манере пения Жюли, — то мир, который он творил из разных кусочков, был прекрасен в мельчайших своих подробностях; а поскольку он не был злым, то наделял существа, с которыми имел дело, в первую очередь самыми редкостными качествами. Он проводил свое время, разочаровываясь. Но дух отца побуждал его идти навстречу опасности с дерзостью и отвагой, исполненными презрения, а отчаянная повадка выражать это презрение, унаследованная от Жюли и Костов, вынуждала его по доброй воле попадать в самые ужасные капканы и находить смутную радость, чувствуя, как их зубья с лязгом ударяют его по самым незащищенным местам. Это приводило его противников в замешательство. Он приобрел привычку отыскивать в поражениях вкус победы.
Какая замечательная школа, если бы только ему суждено было спастись! Я думаю, к примеру, о себе! Рассчитаться со всеми после подобных испытаний — это дешево заплатить за полное право быть немилосердно жестоким.
Но он никогда не сводил никаких счетов. Если меня это удивляет, то я все же понимаю, что рассуждаю в данном случае на основе своего личного опыта; а он — он не мог сводить счеты ни с кем, потому что никогда не видел ни одного реально существующего мужчину, ни одну реально существующую женщину.
Или же если под влиянием особенно глубокой раны он старался поближе рассмотреть человеческое существо, которое ему ее нанесло, то впадал в противоположную крайность и, взяв за основу недостатки или пороки, к которым вы и я испытали бы величайшую и свободную от заблуждений снисходительность, выдумывал на потребу своему гневу (совершенно неукротимому) гнусных чудовищ — отвратительные карикатуры на наши самые естественные и распространенные мерзости.
Он был до того горяч, что я много раз видел, как он готов вот-вот погубить самого себя, подобно пылающей головешке, которая сама себя испепеляет.
Воображение до крайности распаляло вспышки его гнева. В сущности, они были всего лишь мгновениями, когда его вспыльчивость (которую никакое здравое суждение о делах реального мира не могло обуздать) забирала власть над его мускулами и нервами. Это состояние, в какое он нередко позволял себе впадать, причем самым прискорбным образом, заставило его в восемнадцать лет принять очень важное решение. Он чуть было не убил человека; по правде сказать, ничтожество, о котором никто бы и не пожалел, но для него — человека. Он попытался взять себя в руки, что ему и удалось. Но и это было не чем иным, как еще одним способом расходовать силы, я даже скажу — бросать их на ветер, ибо атака была стремительной, поединок закончился в два счета (он не успел и рукава засучить), произошел на виду у всех, на базарной площади, и завоевал ему все сердца и симпатии.
В пятнадцать лет он был гордостью приемов на Польской Мельнице. Восторженное доверие, с которым он встречал все и вся, сделало из него любимчика дам. Я ясно чувствовал, что иногда они бывали несколько смущены его прямотой, но, пользуясь ею в своих интересах, они к ней приноравливались. Однако я наблюдал и таких дам — из самых хищных и самых хитрых, — которые окружали себя всякими предосторожностями.
Жюли ела его глазами. Эта романтическая женщина вручила Леонсу что-то вроде полной доверенности на право прожить вместо нее героическую жизнь, какую сама она всегда мечтала прожить. И не для того, чтобы восстановить справедливость. Она вела с ним нежные беседы с глазу на глаз, во время которых далека была от того, чтобы говорить с ним как мать. Если бы можно было сделать из него фата, она бы этого добилась. У него, как у всякого молодого человека, возникали любовные связи, которые ровно ничего не значили, но в которых он всегда усматривал конец всей жизни и, как следствие, расплачивался за них по — крупному. Жюли ликовала и звала его «своим рыцарем печального образа». Она не замечала, что вместо того, чтобы приобретать в этих связях житейскую сметку и опытность, Леонс терял в них сокровища души.