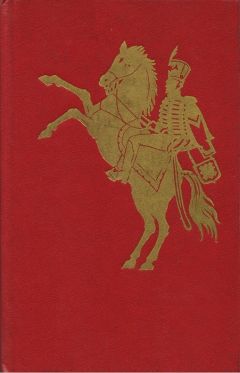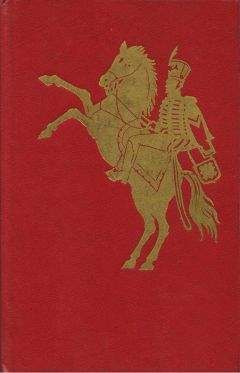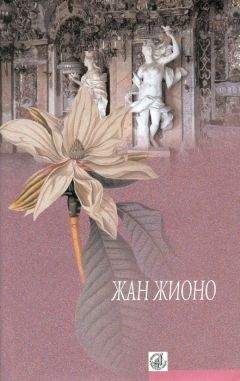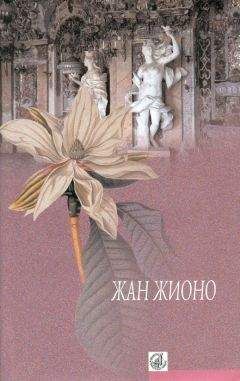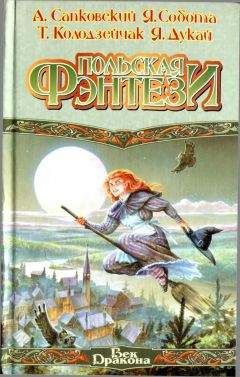Жан Жионо - Польская мельница
Я никогда не навещал Польскую Мельницу реже, чем раз в три дня, и каждый раз бывал поражен удивительными изменениями в ее облике. Ни Кост, ни Пьер де М., ни Жак не думали об ее украшении. Г-н Жозеф приказал вырубить в березовой роще аллею, и пруд замерцал в конце прохода своими дрожащими бликами. Он приказал высадить быстрорастущие породы деревьев, в большинстве — пирамидальные тополя, но не в виде аллей, как это иногда у нас делали, а купами. Все это, понятно, требовало более длительных усилий, однако, наблюдая, как некоторые куски земли чернеют или зеленеют трудами Бюрля, покрываются побегами виноградных лоз, пшеницей, рожью, овсом или эспарцетом, я бывал вынужден при каждом из своих очередных посещений огибать новые лужайки, которые перекапывали лопатами, и клумбы, которые рыхлили граблями.
И сам дом приобрел нарядный вид из-за свежей побелки, наружной деревянной обшивки, покрашенной в несколько ядовитый зеленый цвет, из-за провансальского фриза с красивым черепичным узором, из-за террас, очищенных от опавшей листвы, которая постепенно накапливалась и ковром устилала их долгие годы.
Не следует, однако, думать, что г-н Жозеф опустился до того, что вознамерился сотворить таким образом какую — то приманку. Если бы он пожелал набить всеми нашими умниками свою комнатушку у Кабро, то сделал бы это с легкостью. Он мог брать их голыми руками. И держал их за шкирки, словно котят, а потом, не оцарапанный и не укушенный, забрасывал их, куда хотел. Все, что я о нем знаю, не дает и помыслить о подобной слабости с его стороны. Не для них создавал он заманчивый антураж. Все это он создавал для нее, для Жюли.
Совершенно очевидно, что лично ему нечего было делать с таким обществом, напомаженным и щебечущим до противного. Будь на этот счет хоть тень сомнения, достаточно было бы понаблюдать за хозяином дома во время приемов, которые происходили три раза в неделю на широкую ногу и более скромно в остальные дни.
Он явно светился радостью, и до такой степени, что ему удавалось доставлять глубокое удовлетворение тщеславию своих гостей (которые были так на него падки). Мне доподлинно известно, что г-н Жозеф мог в совершенстве имитировать все: радость, гнев, интерес, удовольствие, учтивость и даже великодушие! Все: чтобы ввести вас в заблуждение. Мне доподлинно известно, что он мог непринужденно предложить удовлетворение вашему тщеславию, как предлагают кофе; что его умысел мог доходить и до того, чтобы, словно нарочно, оставлять приоткрытыми некоторые уязвимые места. Но чем больше мы будем говорить о его рвении в занятиях дипломатией и в применении им своих познаний, тем меньше будем иметь возможностей объяснить себе, зачем он это делал, если только не допустим, что он любил Жюли и хотел одарить ее как можно большим, в особенности тем, чего прежде ей недоставало.
Итак, надо полагать, это была разновидность любви (чувство это меня изумляет!).
Однажды вечером — то было в конце ее беременности — у Жюли случились в нашем присутствии кое-какие маленькие женские недомогания, связанные с ее состоянием. Ничего тревожного: приливы крови, несколько незначительных подергиваний. Нас выставили за дверь, всех разом, и быстрее, чем мы успели что-либо сообразить. Он нас заставил бы проглотить свои кофейные ложки, окажись в этом нужда! Все было сделано рукой мастера. Мне это пришлось не по вкусу. Самое забавное, что я был единственным, кому этот случай открыл глаза, и даже единственным, кто заметил дерзкую беззастенчивость, с какой он тогда показал, что совершенно не принимает нас в расчет. Никто на него за это не рассердился. Даже я.
Мы пошли через парк, чтобы добраться кто до своего экипажа, кто (как я и два-три других гостя, которые пешком поднимались в город) до тропинки, позволявшей кратчайшим путем оказаться наверху. Кабро (служивший теперь в господском доме на Польской Мельнице) и три лакея сопровождали всю компанию с факелами, с очень большой пышностью. (Я сразу должен отметить, что церемония провожания была обязательной и заблаговременно установленной для всех раз и навсегда. Речь никоим образом не шла ни об учтивости, ни о любезности. Просто так повелось. Он так решил. Факелы или кофе были явлениями одного порядка: из них нельзя было вывести ничего лестного для себя.) В неверном свете парк терял границы и, казалось, занимал все пространство темной ночи. Каждый миг он открывал неслыханные богатства, которые, в оправе теней, вспыхивали неподражаемым блеском. Костры пурпурных роз с запахом мускуса начинали пламенеть при нашем приближении. Вечерняя прохлада усиливала персиковый аромат от кустов белых роз. У наших ног ковры из анемонов, лютиков, маков и ирисов разворачивали свои письмена, если и не вполне понятные, то, во всяком случае, магические теперь, когда медно-золотистый свет факелов мешал голубые пятна с красными и заставлял их соединяться в темные массы среди желтых, белых цветов и зелени, глянец которой казался стальным. Сам я различил какие-то подобия фантастических животных: левиафанов из испанской сирени, мамонтов — из фуксий и душистого горошка, всех животных с чудесного герба. Над нашими головами покачивали ветвями клены, а акации, осыпающие свои цветы, овевали нас струями ароматов, куда более волнующих, чем медовые вина. Приглушенный, но более слышный, чем поскрипывание гравия у нас под ногами, шелест, который пробегал по кустам, побуждал меня представлять себе, что мы следуем в окружении огромных псов с легкой поступью. Даже Кабро, несмотря на свой малый рост, исполнился от этого торжественностью. (Если только он не воспользовался для придания важности своей походке презрительной иронией. Он вполне был на это способен.)
Я смотрел на эту процессию высшего света. Нас было около двадцати мужчин и женщин; все молчали. Они должны были задаваться вопросом, как следовало понимать это бесцеремонное выпроваживание, а теперь еще и это внезапное погружение в колдовской мир огней, листвы и цветов. Им не потребовалось много времени, чтобы в самих себе найти причины всем этим восхититься. Там были самые сливки общества. Несколько очень красивых женщин, отнюдь не провинциального вида, увешанных драгоценностями, были, я знал, по-настоящему очарованы Жюли. (Вопрос проницательности, в чем я всегда завидовал женщинам. Они имеют очень тонкие чувства, которые, подобно усикам виноградной лозы, оплетают то, что считают своей сенью, и проявляют себя в дальнейшем, как прочнейшая в мире оковка.) Они перешептывались. Избыток перстней и колье, в которых факелы зажигали огоньки, заставлял их лишь пуще завидовать неотступной нежности г-на Жозефа, выпавшей на долю Жюли.
Даже когда стали видны экипажи, которые стояли в ожидании на круглой площадке у большого портала, мы продолжали шагать без спешки и в молчании.
Карабкаясь по крутой тропинке, я бросил взгляд назад и вниз. Экипажи быстро катили по темным дорогам, потряхивая своими фонарями, увозя с собой чувства ревности и печальной, но без горечи, зависти, они катили к своим вотчинам, гордо раскинувшимся на хорошей земле. Лакеи и Кабро в это время шли через парк по направлению к дому. Их путь под деревьями был словно залит фосфорическим светом.
Г-н Жозеф никогда не говорил о судьбе Костов. Я поведал ему обо всем без утайки в вечер нашего первого разговора. В тот раз я говорил с человеком, умеющим слушать лучше, чем кто-либо другой. Позднее я понял, что он придал очень большое значение каждому моему слову.
Я, однако, не переставал считать ребячеством его поведение по отношению к женщине. Он ведь расходовал сокровища, которые могли бы быть употреблены для других целей с большей пользой. Он мог стать королем нашего края, направь он те же усилия воли в нужное русло. Польскую Мельницу отныне считали поместьем, управляемым лучше всех других. Разбивка полей вызывала восхищение даже у знатоков. Уже в первые годы мне были доверены для помещения крупные суммы капитала. Я не позволил себе вложить их в сомнительные предприятия.
Вы, несомненно, спрашиваете себя, как г-ну Жозефу удавалось легко держать в узде и подчинять себе все наше высшее общество, столь склонное к строптивости; да так же, как он держал в узде и направлял меня. Если я со своей стороны добровольно согласился следовать за этим человеком с чувством, похожим на нежность, так это потому, что я испытывал величайшее восхищение (величайшую зависть) перед его недостатками и даже пороками. Они не имели ничего общего с тем, с чем мы связывали наши успехи и наше счастье. Я принял его за ловкача; дело в том, что сила и уверенность в себе в определенной степени могут походить на ловкость. Во всем, что он затевал, он добивался победы. Если события противоречили его планам, он не считался с противоречиями.
Как только вы начинали испытывать страх и уважение, которые следуют бок о бок, вы оказывались в его лапах. Если на земле и вправду существовал какой-нибудь эгоист, то им и был этот человек. Его совершенно не заботили ваши нужды. Он никогда не беспокоился о моих нуждах. Что касается денег, то, конечно же, он бывал непомерно щедр. Просто потому, что не придавал им никакого значения. Но в том, чтобы забрать хоть какую-то власть над ним, навязать свою волю, пойти наперекор тому, что здравомыслящий человек может или только захочет сделать, в этом он вам решительно отказывал. Вам нужны деньги, ветчина, вино, картошка, пусть даже в избытке?.. Зачем дожидаться особого приглашения, чтобы их получить? Он ничего не хотел иметь только для себя. Вы их берете и понимаете, что доставляете ему удовольствие. Зато если вам надо было в чем-то превзойти его, что называется, взять над ним «верх», то тут он проявлял безобразную скаредность на любые уступки. Как-то я вбил себе в голову, что заставлю его уступать в мелочах. Мне казалось, он в состоянии это понять. Я достиг такой степени общего признания, что ощущал насущную потребность в крошечной победе над ним, как бы мала она ни была, и Бог свидетель, я выбрал совсем малюсенькую победу. Очень скоро я вынужден был дать задний ход.