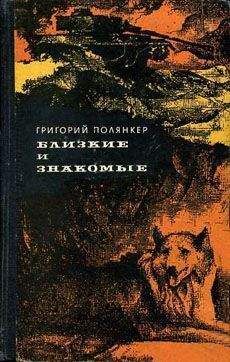Жак Стефен Алексис - Деревья-музыканты
Олисма был удивительно крепок, настоящий негр племени данда[50]. Проработав целый день в поле, он еще находил в себе мужество идти в Чертов Овраг. Три вязанки здесь, четыре там, глядишь, и набралась немалая поленница. Он как следует укрыл их просяной соломой, и никому, даже Рен, не могло прийти в голову, что огромные ометы на поле — это настоящие тайники. Воры — и те не догадались что к чему. А какие дрова! Байягонды в Чертовом Овраге росли густо, будто шерсть у новорожденного осленка. Древесина плотная, смолистая, крепкая — прелесть! Вот-то Рен обрадуется! Он выручит за дрова кругленькую сумму, не меньше двухсот гурдов, заплатит все долги и вырвет свою землю из когтей Вертюса Дорсиля. И тогда ему сам черт не брат. Любопытно будет поглядеть, какую рожу скорчит Сена Расин, незадачливый жених, которому Рен указала на дверь, да и все эти свахи и кумушки в придачу!..
С тех пор как они с Рен поженились, Олисма только и думал, как бы доказать всем, кто противился их браку, что зря они каркали. Конечно, Рен его любит, но он боялся, что наступит день, когда люди начнут выражать ей свою жалость: ах, мол, бедняжка, какую сделала глупость, предпочла голодранца Олисму сыну богача Калистена Расина... Соседки просто глаз с них не спускали, подглядывали да подслушивали, а потом твердили на каждом углу, что Рен живет в пустой хижине, где слепые могли бы драться друг с другом на палках и ничего не разбить. Нет, Рен ни разу не приходилось просить помощи у своих родителей! Правда, нелегко человеку свести концы с концами, когда у него такой крохотный участок, но Олисма так умело его обрабатывал, что собрал самый лучший урожай во всей округе. День и ночь он копал и перекапывал поле, поливал, собирал — для удобрения — на дороге навоз! Эх, тащишь ли на своем горбе воду, или золото, или навоз — спина ноет одинаково, одинаково с тебя течет пот. А всего бы лучше — носить на руках свою Рен, свое золото, настоящее, чистое золото...
Твердым шагом Олисма шел по тропинке с мачете в руке. Скоро Рен родит малыша... Коричневую куколку! Олисма даже побежал рысцой, сбивая на ходу ударами мачете когтистые цепкие зеленые лапы боярышника. Вдруг ему вспомнились слова отца Буа-д’Орма и новости, принесенные мальчишкой Жуазилюсом. Вся деревня в тревоге... А, не стоит беспокоиться! Горожане не первый год досаждают крестьянам. То, видите ли, межа не на месте, то по налогам недоимки, то гони им деньги за разрешение исполнять обряды водуизма... Но в общем все это мелочи... Жизнь — та же война!.. Вряд ли озерному краю грозит что-то серьезное... Весь во власти радужных надежд, Олисма все ускорял шаг, спеша добраться до Чертова Оврага.
Даже птицы и звери — и те уважали достояние храма. Не пропал ни один колосок, ни одно зернышко. По утрам главный жрец обходил поле и бросал птицам горсти зерна. Зеленые волны маиса ласково колыхались вокруг Буа-д’Орма Летиро. Старик остановился на голом островке посреди изумрудного моря злаков и задумался. Прищуренные глаза блуждали по высоким травянистым стеблям, влажным от ночной росы. Могло показаться, что он говорит с самим собой, но ни один звук не вырывался из его дряблых старческих уст. Губы быстро шевелились, застывали, снова двигались. Он наклонился, внимательно разглядывая растение, свесившее к земле хрупкий стебель. Протянув руку, высвободил огромный початок из окружавших его листьев, ощупал пальцами, сорвал со стебля. Шелковистые светлые волосы маиса рассыпались золотым дождем по ярко-зеленой оболочке. Буа-д’Орм стал не спеша очищать початок от плотного чехла.
То был великолепный початок, с зернами белыми, крупными, двойными. Главный жрец задумчиво оторвал одно зернышко, взял его двумя пальцами. По форме своей зерно походило на человеческое сердце! Буа-д’Орм вздрогнул. Он с силой провел пальцем по одной из сторон початка. Посыпался дождь маленьких белых сердец. Старик учащенно задышал, поднес к груди кулак с зажатыми зернами, бросился на колени... Айэ, святые лоасы!
Ведь он — маленький человек, смиренный служитель божий, простой крестьянин среди таких же, как он, крестьян! Почему ему, именно ему, послано новое чудо в грозный час перед бурей? Почему не умер он раньше, чем наступил черный для его страны час? Что еще нужно от него богам? Почему они взвалили ему на плечи непомерное бремя? Он живет почти в нищете, трудится в поле, вкушает скудные плоды трудов своих, рожденные нивой, которая принадлежит богам; он всегда боялся взять лишнюю долю из того, что добывал, трудясь в поте лица своего, ибо все это оставалось собственностью ревнивых ненасытных лоасов.
Они силой толкнули его на этот путь, они, эти боги в образе человеческом! О, он всегда чувствовал их за спиной — всех до единого, лоасов-воинов, лоасов-охотников! А ведь путь жреца никогда не прельщал его. С младенческих лет боялся он этих лоасов, заботливых и деспотичных, злопамятных и верных. И все же выбор пал на него! Кто знает, может потому его и избрали боги, что он так их боялся. Отыскали его совсем мальчиком, в городе, где он учился в школе, — и вернули в родную деревню. Он страдал тогда загадочным недугом, корчился в диких приступах боли, и рука его, сведенная судорогой, неизменно поднималась вверх, точно сжимала деку[51]. Неотступно, ночью и днем, возносили к небесам всемогущие боги скрюченную детскую ручонку. Он уже был при смерти, когда его привезли в Фон-Паризьен. Главный жрец, мудрый Брав Батуала, его предшественник, скончался накануне его возвращения... И ребенок исцелился — внезапно, в тот самый миг, когда его внесли в святилище, в помещение, где стоит алтарь. Мальчик встал на ноги, взял в руки деку. И стал главным жрецом... С тех пор прошло восемьдесят лет...
Иногда он восставал, бунтовал против лоасов, богохульствовал, кричал, что боги ненавидят его, что они привязали его к алтарю насильно. Но в душе он любил их. Был предан им, как верный пес. Был их избранником, и сердце его полнилось от этого радостью... Он хранил в чистоте древние традиции, оберегал тонкую, но прочную нить, связывающую народ с его величественным прошлым. Его правая рука делала все, что повелевали лоасы, его левая рука была незапятнана. Один, с глазу на глаз со святыми духами, прошел он все ступени таинства. Пусть у богов нрав капризный и тяжкий, но кто же, как не лоасы, протрубили в морскую раковину и подали сан-домингским рабам сигнал к восстанию! Это под их руководством вчерашние рабы нанесли — впервые в истории нового времени! — поражение белым колонизаторам. И родилось первое в мире негритянское государство... Порою Буа-д’Орм плакал кровавыми слезами, но всегда повиновался. В храме Нан-Ремамбрансы святая Алада по-прежнему озаряет светом надежды детей Африки, обреченных страдать в сан-домингском аду...
Да, святилище возродится! Оно будет возрождаться вечно, в том самом месте, где закопаны священные камни. А ему, Буа-д’Орму, суждено скоро погибнуть. Он это знает. Волна радости нахлынула на него. Он встал с колен. Какая малость — жизнь одного человека! Каждая капля его крови расцветет прекрасным цветком в возрожденных полях!
Он раскрыл ладонь и взглянул на маисовые зерна, на бледные, благоухающие сердца. Потом посмотрел на небо. Стая голубей приближалась к полю. Буа-д’Орм дрожащей рукой вынул из сумки деку. Открыл ее, всыпал зерна, вложил початок. Неся деку на ладони навстречу встающему солнцу, шел он по маисовому полю. Дека пылала золотистым огнем — маленький желтый сосуд из тыквы, испещренный черными узорами, затейливой вязью линий, углов и кругов, опоясанный цепью червонного золота. Буа-д’Орм стряхивал с длинных маисовых листьев чистые капли росы в священный сосуд. Бодрым, уверенным шагом шел он сквозь чащу зеленых стеблей.
Голуби опустились на поле. Взяв из сумы горсть проса, он бросил корм птицам. Крылья вихрем закружились над головой. Буа-д’Орм закрыл деку. Сизый голубь сел ему на плечо. Он улыбнулся, глядя, как птица клюет с ладони зерно. Подобрав с земли посох, с декой в руке и с голубем на плече, старик направился к храму.
VI
Стремясь добраться до своего прихода Гантье без малейшего опоздания, отец Диожен Осмен пробыл в Фон-Паризьене всего три дня. Конечно, он надеялся приезжать сюда время от времени, дабы отогревать измученное заботами сердце у вновь обретенного семейного очага. Но ему не терпелось поскорее вступить во владение своим новым жилищем — старым приветливым домом в чисто викторианском стиле, поднимающим свою причудливую крышу, с мансардами, слуховыми оконцами и башенками, до верхушек самых высоких пальм и манговых деревьев. Дом встречал пришельцев ласково и радушно, как добрая бабушка в крахмальном чепце, с милой беззубой улыбкой.
Отец Осмен познакомился с причетником Бардиналем, человеком неопределенного возраста, который после долгого общения с лицами духовного звания и сам стал смахивать на священника: крадущаяся, словно скользящая над землей походка, благостно сложенные руки, запах воска... К тому же причетник хромал на обе ноги; так и ждешь, что он вот-вот рухнет на колени. Судя по всему, неплохой парень; неотесан, конечно, и при этом — себе на уме, но в общем и мухи не обидит. Что касается мадам Амелии Лестаж, домоправительницы, — она занимала этот пост с давних пор, добившись его долгими жалобами и слезами. Бедная вдова и святоша, она чуть ли не ежедневно плакалась в жилетку тогдашнему священнику. Получив наконец желанное место, Амелия Лестаж сразу обрела уверенный и достойный вид. Не женщина, а воплощенная добродетель и совершенство...