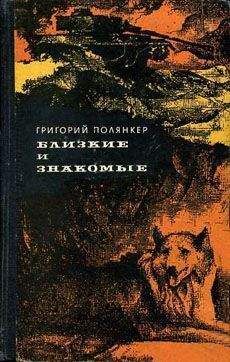Жак Стефен Алексис - Деревья-музыканты
Плоское лицо гангана жило напряженной жизнью. Казалось, эта физиономия с подвижными, по-бычьи крупными чертами, всегда смеялась тихим отрывистым смехом; у губ лежала едва приметная надменная складка.
Послышались легкие торопливые шаги. Приближалась молодая женщина, стройная, гибкая, в самом расцвете вызывающей красоты. Чтобы облегчить себе шаг, она подобрала и подоткнула за пояс грубошерстную юбку — виднелось полное бедро, мускулистое, чуть влажное от пота. Женщина остановилась, застыла в нерешительности. Под тонким, потертым спереди корсажем вздрагивали круглые, ничем не стесненные тяжелые груди. Трепетал от прерывистого дыхания выпуклый живот, обтянутый черным платком, повязанным вокруг талии. Быстрым взглядом женщина обвела окрестность. На красноватом лице была написана робость и тревога, ноздри раздувались — живая чувственная маска Венеры с берегов южного Нигера — «Земля, вскормившая Человечество»...
Казалось, она не смеет подойти слишком близко к дереву — обиталищу богов. Страх и тяжелое дыхание придали всем изгибам ее тела скульптурную рельефность.
— Мирасия!
Из-за корня показалось лицо Данже Доссу.
— Мирасия!
Она отозвалась невнятным возгласом, но не тронулась с места. Голос Данже Доссу загремел — низкий, грозный, повелительный и свирепый, как эхо потока в Трехречье.
— Черт возьми, ты что, не слышишь? Я зову тебя, Мирасия!..
Повинуясь голосу, женщина быстро двинулась к дереву, потом замедлила шаг, заколебалась и встала как вкопанная у самой тени бавольника.
— Иди сюда, тебе говорят!
Наконец она решилась и подошла. Данже Доссу смотрел на нее пристальным взглядом.
— Мадемуазель Александрина водила тебя к тем людям?
Мирасия утвердительно кивнула головой.
— Они тебя наняли?
Опять кивок.
— Ты помнишь, что тебе нужно делать?
— Да, брат Данже, — пробормотала женщина.
Точно загипнотизированная взглядом колдуна, она сунула руку за корсаж, вытащила какую-то белую тряпицу и протянула ее гангану. Он схватил этот кусок ткани обеими руками, поднес к глазам, развернул.
— Сорочка священника? Уже успела раздобыть?
Она снова кивнула. Лицо Данже Доссу просияло.
Он выпрямился, не вставая с колен, откинулся назад, прислонился спиной к корню и, судорожно сжимая в руке сорочку, стал издавать гортанные звуки. Потом запрокинул лицо вверх, к листве бавольника, и засмеялся загадочным смехом. Он сбросил куртку и сорвал с себя темно-красную засаленную рубашку, грязнее всей остальной одежды. Отшвырнул ее далеко в сторону и обтер влажный торс сорочкой, которую дала ему Мирасия. Мирасия, присев на корточки, с ужасом смотрела на него.
Данже Доссу трижды хлопнул себя по груди:
— Я Данже Доссу! Пусть попробуют помериться со мной силами!
И остановил на Мирасии тяжелый взгляд.
— Иди сюда! — приказал он.
Она поползла было к нему на коленях, но остановилась на полпути.
— Сюда, черт возьми!
Повинуясь мановению его руки, она легла на землю. Он склонился над ней, задышал в лицо. Потом, с протяжным стоном, с каким-то отрывистым ржаньем, рухнул на нее.
На корнях обиталища красноглазых духов он посвящал тело Мирасии кровожадным богам. Обрядом сладострастия он заранее праздновал свою победу над чужаком-священником, который явился сюда, чтобы отнять у него власть. Ужу не бывать кайманом! Он ощущал победу всем своим телом. Он останется Данже Доссу, ганганом, «донпедро», доверенным лицом грязных сил. Он тайно поможет священнику сломить всех водуистских жрецов в этом крае, всех до последнего. Даже сам Буа-д’Орм — и тот будет низвергнут! А тогда он, Данже Доссу, победит священника — и станет единственным и непререкаемым духовным вождем. Он установит свою власть над озерным краем. Богатый и могущественный владыка, он будет командовать всеми и распространит свое влияние на высшие политические сферы, вплоть до столицы! Ведь он владеет отныне нательной рубашкой отца Диожена Осмена!
Одетый в синий форменный мундир со всеми регалиями, Жозеф Буден, окружной начальник, сидел на земле и злобствовал. Вокруг волновался беспредельный океан листвы, и казалось, горизонт мерно покачивается под вечерним бризом, словно корабль в бортовую и килевую качку. Во дворе едва слышны были торопливые, осторожные шаги, домочадцы Жозефа Будена боялись привлечь его внимание: в гневе окружной начальник бывал поистине страшен. На нашем герое был доломан, распахнутый на голой тощей груди. Он сидел прямо в пыли — в новеньких кавалерийских штанах и начищенных кожаных крагах. Рядом лежала каска защитного цвета, на заду висел огромный кольт. Жозеф яростно колотил по земле стальным мачете, поднимая каждым ударом столбы белесой пыли...
Разумеется, его и раньше ненавидели молчаливой ненавистью, прикрытой лицемерными улыбками, но с тех пор как в округе появились воры, а он оказался бессильным с ними справиться, — на него стали смотреть как на пугало, скорее смешное, чем страшное.
Пугало, на котором прожорливые птицы вьют гнездо! Ведь ни для кого не секрет, что воры обобрали его собственный сад. Прощай, гордая осанка и звон серебряных шпор! Теперь все от мала до велика твердят, что тот, кого называли «страшный Жозеф Буден», — фитюлька, ничтожество! Теперь люди смеются ему в лицо, а мальчишки распевают оскорбительные куплеты. Потому-то и сидел Жозеф Буден в пыли, свирепо вонзая в землю свой мачете.
Однако приступ гнева длился недолго. Жозеф Буден понемногу успокоился. Да! Он обязательно проведет великолепную операцию! Надо во что бы то ни стало схватить нескольких разбойников, связать их и торжественно провести у всех на виду до самого Фон-Паризьена. Тогда люди волей-неволей признают, что если страшный Жозеф Буден не изловил воришек раньше, то только потому, что слишком надеялся на своего помощника, младшего полицейского Канробера Гийома. Власти, которые уже начинают выражать недовольство недостаточной твердостью окружного начальника, поймут, в чем было дело, и этот пост останется по-прежнему за Жозефом Буденом.
Вдруг за густой листвой послышался дружный хохот, а за ним — песня, издевательская, ядовитая, наглая:
В трактире водки ты купил,
хозяйке ты не заплатил.
Жозеф, скорее заплати,
хозяйке заплати!
Жозеф Буден вскочил на ноги, швырнул наугад в листву мачете, завопил:
— Гром и молния! Я еще доберусь до вас! Будете помнить Жозефа Будена!
Смех зазвенел еще веселее. Песня звучала совсем близко:
Жозеф, скорее заплати...
У окружного начальника все поплыло перед глазами от ярости. Он выхватил револьвер и принялся палить по кустам. Голоса замолкли, послышался топот бегущих ног, и все стихло. Из дома выскочила Эдовия, жена Жозефа Будена, и дочери. Они вцепились в него, стараясь успокоить. Жозеф в бешенстве вырвался, женщины полетели на землю. Обе дочери успели спастись бегством, но Эдовия оказалась менее проворной. Жозеф схватил ее и поволок к хижине, рыча:
— Я тебе, дьяволица, покажу, что значит вмешиваться в дела Жозефа Будена! А-а-а! Ты не дала мне разделаться с этими висельниками? Что ж! Сама за них поплатишься!..
Остальные домочадцы и сбежавшиеся соседи держались на расстоянии. Они со страхом слушали, как хлопает кожаная портупея по дряблому телу Эдовии... Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!..
Жозеф орал что есть мочи:
— Кричи: «Все женщины — дряни!»
Хлоп!..
— Ой, Жозеф! Ой!.. Все женщины — дряни!..
Хлоп!..
— Громче кричи!
— Жозеф!.. Женщины — дряни!
И снова «хлоп-хлоп» по тощему заду Эдовии!
Аристиль даже не дал себе труда рассказать Майотте, своей жене, какие потрясающие новости волнуют округу. Их семейный очаг был нерадостным — какой же это семейный очаг без ребенка. Они мало говорили между собой, но сердцем всегда понимали друг друга. Каждый жест супругов был проникнут взаимной нежностью, нежностью молчаливой, порой даже угрюмой. Всем известную свою раздражительность Аристиль никогда не обращал против Майотты. Она вызывала у Аристиля странное чувство — смесь уважения, любви и холодности. Майотта была святым и безропотным существом, таившим в сердце неизбывное горе, о котором говорил ее скорбный взгляд. Бесплодная супруга — не настоящая женщина, ей неведомы настоящие радости, настоящее счастье. Все чувства Майотты словно притупились. Ее не страшил повседневный тяжкий труд, она не замечала, как скудна ее пища — кусок маниоковой лепешки утром и вечером... Радуга светлых мечтаний с годами рассеялась — ребенка все не было...
В последние дни Аристиля неотвязно преследовала одна мысль — воры... Сад был для него чем-то неизмеримо большим, чем просто средством к существованию. То была изумрудная, струящаяся в солнечном свете нива; гнуть на ней с утра до вечера спину — и то было радостно: казалось, что ты выполняешь миссию, искони предназначенную человеку. Был ли Аристиль жаден, дрожал ли, как скряга, за свое добро?.. Или просто по-хозяйски расчетлив? Он был, конечно, и жаден и расчетлив, как всякий крестьянин. Но, работая на своем клочке земли, он изо дня в день ткал для себя пелену иллюзий, создавал видимость осмысленного человеческого существования... Он должен сдержать слово, должен показать своим односельчанам, этим слюнтяям, что он, Аристиль, — человек в полном смысле этого слова. Разве не был он когда-то героем с возвышенным и чистым сердцем? Герой... Если бы люди знали, как нелегко стать героем... Да, он был одним из самых отчаянных храбрецов в партизанских отрядах Шарлеманя Перальта, он ходил в атаку на янки, шел прямо на их штыки, на их пулеметы. Ах, эти ночи, проведенные в засаде рядом с молчаливыми товарищами, когда перед тобой проходит вся твоя жизнь, и тяжко на сердце, и лежишь, распростершись на влажной земле, оскверненной врагами родины!.. Времена, конечно переменились, старого Гаити уже нет, но люди, если вдуматься, остались такими же, и ко всему новому, что появилось в жизни, относятся точно так же, как прежде — кто полон страсти, кто эгоизма, кто щедрости, кто томится скукой. Героизм теперь не в ходу, но он еще живет в сердцах людей, сохранивших верность старым знаменам. Аристиль свершит правосудие сам, собственной рукой, защитит свое добро и от воров и от всех городских тунеядцев, которые точат зубы на крестьянские земли. А придет смерть — он передаст имущество тому, кто сумеет его сохранить, кто будет отстаивать его с оружием в руках, как отстаивал когда-то сам Аристиль от врага каждую пядь гаитянской земли... Бессмысленно было бы жаловаться, рассчитывать на какую-то помощь со стороны этих ублюдков из сельской полиции. Вступить в грязную сделку с депутатом или землемером, обобрать бедняка да позвякать серебряными шпорами — это они умеют, а добра от них не жди...