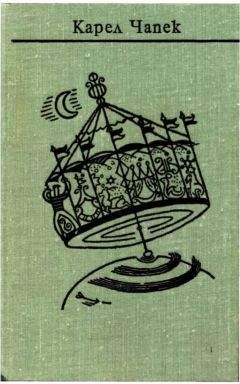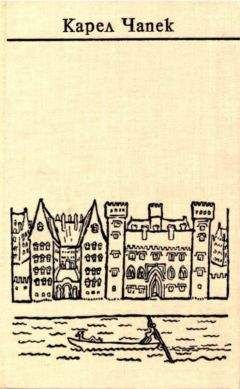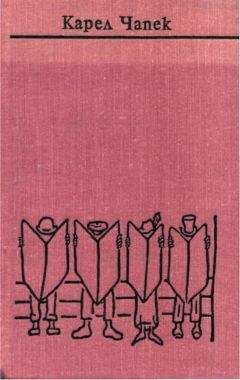Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы
Писатель очнулся от дум.
— Что?
Врач молча поставил перед ним сахарницу.
— Ох, и работы было сегодня! — заметил он. — Скорей бы в отпуск.
— Куда вы поедете?
— Охотиться.
Писатель внимательно посмотрел на немногословного хирурга.
— Съездили бы куда-нибудь подальше — поохотиться на тигров и ягуаров. Пока они еще не перевелись.
— Я не прочь.
— Послушайте, а вы представляете себе, как выглядят эти места? Можете вообразить… ну, скажем, рассвет в джунглях? Щебет неведомых птиц, похожий на звуки ксилофона, аромат рома и масла…
Хирург покачал головой.
— Ничего я не представляю. Черт побери, я все это должен видеть, понимаете, видеть. — И он добавил, прищурясь: — Когда на охоте стреляешь, то смотришь в оба.
Писатель вздохнул.
— Вам хорошо, друг мой. А я всегда смотрю и все время при этом фантазирую. Вернее, фантазия вдруг начинает работать самостоятельно, в воображении разыгрываются какие-то сцены, действие идет само по себе… Ну, конечно, я вмешиваюсь: советую, поправляю и прочее. Понимаете?
— А потом все это излагается на бумаге? — бурчит хирург.
— Что вы! Обычно нет. Такой вздор! Вот сейчас, пока вы варили кофе, я выдумал две глупейшие истории о вашем курчавом коллеге из терапевтического отделения. А скажите, пожалуйста, — спросил вдруг писатель, — что он за человек?
Хирург поколебался.
— Ну, — выговорил он наконец, — чуточку фанфарон… Очень самонадеян — как все молодые врачи. А в общем, — он пожал плечами, — не знаю, что может быть в нем интересного для вас.
Писатель не удержался.
— А нет ли у него романа с этой маленькой медсестрой?
— Не знаю, — проворчал хирург. — Вам-то какое дело?
— Никакого, — хмуро согласился писатель. — Да и вообще — какое мне дело до реальной действительности? Вы думаете, что мое ремесло — выдумывать, сочинять, забавляться?.. — Он наклонил массивные плечи. — В том и беда, что для меня чрезвычайно важна действительность! Потому-то я ее и выдумываю; потому я все время должен что-то сочинять, добираясь до сути вещей. Мне мало того, что я вижу, я хочу знать больше; для того и сочиняю всякие небылицы. Имеет ли это какой-нибудь смысл? И при чем тут действительная жизнь? Вот я сейчас начал писать… М-да, начал писать, — повторил он рассеянно. — Я понимаю, что это… только вымысел. Уж я-то знаю, что такое вымысел, как он делается. Скажем, одна доля действительности, три доли фантазии, две доли логических комбинаций, а остальное — хитроумный расчет: надо, чтобы была новизна и созвучность эпохе, надо, чтобы что-то решалось или доказывалось, а главное, чтобы было интересно. Но вот что самое странное, — воскликнул писатель, — все эти трюки, вся эта ничтожная литературщина создают в человеке, который ими занимается, страстную навязчивую иллюзию, будто бы все это происходит на самом деле. Представьте себе фокусника, который извлекает из цилиндра кроликов и сам верит, что это не фокус и не трюк. Какое сумасбродство!
— Вам что-то не удалось, а? — сухо спросил хирург.
— Не удалось. Однажды вечером я шел по улице и вдруг слышу сзади женский голос: «Так ты со мной не поступишь…» Только эти слова — ничего больше, может быть, это мне даже послышалось. «Ты так со мной не поступишь…»
— Ну, а дальше? — помолчав, спросил врач.
— Что же дальше? — нахмурился писатель. — К этим словам я сочинил целую историю. Женщина была права. Понимаете, изнуренная, озлобленная, несчастная женщина. Вы и не представляете себе, в какой нужде живут эти люди!.. Но она была права, она — это воплощение семьи, домашнего очага, в общем, воплощение порядка. А он… — писатель махнул рукой, — бесчестный, безалаберный человек, тупой и стихийный бунтарь, лентяй и грубиян…
— А чем это кончилось?
— Что?
— Чем это кончилось? — терпеливо повторил хирург.
— Не знаю. Но она должна быть права. Во имя всего на свете, во имя всех божеских и человеческих законов, она должна быть права. Понимаете, все зависело от того, что она права. — Писатель крошил пальцами кусочек сахару. — Но этот тип вбил себе в голову, что он тоже прав.
И чем ужаснее и строптивее он становился, тем больше считал себя правым. Понимаете, оказывается, он тоже страдал. Ничего не поделаешь! Как только он начинал жить настоящей жизнью, он не давал командовать собой и жил по-своему, трудно и упрямо. — Писатель пожал плечами. — Знайте же, что в конце концов я сам стал этим беспутным и отчаянным бродягой. Чем сильнее он страдал, тем больше я чувствовал себя в его шкуре… А вы говорите — вымысел!
Писатель отвернулся к окну, — есть вещи, о которых легче говорить, отвернувшись.
— Не получается у меня этот сюжет, надо от него избавиться. Мне хотелось бы… хотелось бы отвлечься как-нибудь… позабавиться чем-нибудь нереальным, что не имеет решительно ничего общего с действительностью и со мной самим. Отделаться бы наконец от этого гнетущего перевоплощения. Почему, скажите, пожалуйста, я должен переживать чужие горести? Мне хотелось бы фантазировать о чем-нибудь далеком, бессмысленном… Словно пускать мыльные пузыри…
Зазвонил внутренний телефон.
— Так почему же вы этого не сделаете? — спросил хирург, снимая трубку, но у него не было времени дожидаться ответа. — Алло! — сказал он. — Да, у телефона… Что? Но… Так несите его в операционную… Конечно… Я сейчас приду… Привезли кого-то, — объяснил он, вешая трубку. — С неба свалился; иначе говоря, упал и сгорел самолет. Еще бы, черт возьми, в такую бурю… Говорят, пилот весь обуглился, а тот другой… бедняга… — Врач помедлил. — Придется мне вас покинуть. Погодите, я пришлю сюда одного пациента. Интересный случай. То есть с медицинской точки зрения весьма заурядный: я вскрывал ему абсцесс на шее. Но он ясновидец. Тяжелый невропат и прочее. Вы ему не очень-то верьте.
И, не слушая протестов гостя, хирург выскочил за дверь.
IIIИ это ясновидец? Унылая фигура в полосатой пижаме, голова набок, шея забинтована — ну и жалок ты, бедняга! Пижама висит на нем, как на вешалке. Ясновидец нетвердой походкой подходит к столу и дрожащими, негнущимися пальцами зажигает сигарету. До чего же близко поставлены у него ввалившиеся глаза! До чего рассеянный и застывший взгляд!
«Нечего сказать, милого собеседника подсунул мне доктор! О чем только разговаривать с эдаким страшилищем? О, конечно, только на потусторонние темы! Думается, что с загробными личностями было бы нетактично заводить разговор о последних событиях».
— Ну и ветер! — заметил ясновидец.
Писатель вздохнул с облегчением: будь благословенна погода, эта спасительная тема для разговора, когда людям нечего сказать друг другу. «Ну и ветер», — говорит, а сам даже не взглянул, как безжалостно за окном буря гнет деревья. Еще бы — ясновидец! Зачем ему глядеть в окно: уставится на кончик своего длинного носа и уже знает, что на улице бушует буря. Ну и дела! Говорите что угодно, а это и есть то самое второе зрение…
Надо было видеть эту парочку: писатель, приподняв массивные плечи и выпятив подбородок, с бесцеремонным любопытством и даже с откровенной неприязнью разглядывает склоненную голову, узкую грудь и тонкий, торчащий нос человека, сидящего напротив. Уж не укусит ли он сейчас ясновидца? Нет, не укусит. Во-первых, из чисто физической брезгливости, а во-вторых, потому, что это ясновидец и в нем есть что-то непонятное и отталкивающее. А ясновидец, по-птичьему наклонив голову, глядит перед собой и ничего не замечает. Между обоими залегло напряженное, антагонистическое отчуждение.
— Сильная личность, — пробормотал ясновидец, словно обращаясь к самому себе.
— Кто?
— Тот, которого привезли. — Ясновидец выпустил струйку дыма. — В его душе страшное напряжение, я бы сказал, пламя, пожар, вулкан… Ну, сейчас, понятно, это лишь догорающее пожарище.
Писатель усмехнулся — ему претили всякие возвышенные и неточные выражения.
— И вы тоже слышали об этом? — сказал он. — Горящий самолет и все прочее.
— Самолет? — рассеянно переспросил ясновидец. — Значит, он летел? Подумать только, в такую бурю! Как раскаленный метеор, которому суждено сгореть. К чему такая спешка? — Ясновидец покачал головой. — Не знаю, не знаю. Он в беспамятстве и не сознает, что с ним произошло… Но ведь по виду почерневшего очага можно догадаться о высоте пламени. Как в нем все выжжено. И как все еще раскалено!
Писатель раздраженно фыркнул. Нет, это хворое чучело попросту невыносимо. Еще бы не раскалено, если известно, что пилот сгорел заживо. А у этого полосатого чучела не нашлось даже словечка сожаления. Впрочем, кое в чем он прав, зачем пострадавший летел в такую бурю?
— Любопытно! — бормотал ясновидец. — Да еще издалека! Пересек океан. Странно — человек всегда сохраняет отпечаток тех мест, где он только что был. Этот человек несет на себе отпечаток морских просторов.