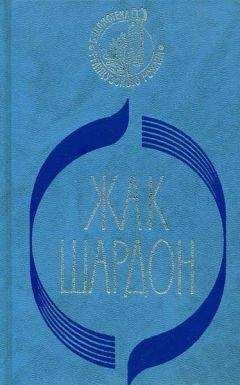Жак Шардон - Клер
Я слышу голос доктора Делозьера. Он выходит из комнаты Клер и, покашливая, осторожно спускается по лестнице.
— Ну что? — спрашиваю я его.
— Все, как я и думал.
— Вы в этом уверены?
— С уверенностью еще ничего нельзя сказать, но очень-очень похоже. Я заеду через месяц.
— Подумать только, благодаря вашему лечению… за несколько месяцев… — мы проходим в гостиную, и я продолжаю вполголоса: — Я так волнуюсь. Скажите, для нее нет никакой опасности? Родить первого ребенка в ее возрасте…
— Возраст не так уж велик…
— Разумеется, но для первого ребенка…
— Она хорошо для этого сложена…
— У вас нет никаких опасений?
— Никаких.
— Но я надеюсь, вы еще приедете? Мы так далеко от всего… Как это все будет? Представить себе появление на свет ребенка в этом доме…
— Мы еще успеем все обдумать… Вы можете пригласить сиделку.
— Одной сиделки недостаточно… Доктору Лотту я не доверяю. Мы будем звонить вам… А вдруг вас нет на месте… Или вы нездоровы? Право, меня это очень беспокоит.
— Она может лечь в клинику. Месяца на два. Так вам будет спокойнее.
— Ну конечно же, в клинику! А я-то не додумался! Ах как я рад, спасибо вам, доктор! Оказывается, все просто. Спасибо.
Я не стал ему говорить, что больше всего боюсь, как бы он сам не умер в нужный день; теперь, когда он рассеял мои сомнения, я угодливо спешу подать ему пальто, приподнимаю меховой воротник, закутывая лицо по самые глаза, распахиваю перед ним дверь, вспугнув стайку птиц.
Машину он оставил за воротами на дороге; провожая его, я умоляю его не разговаривать: мокрый снег вреден для его легких, а он продолжает меня успокаивать и, сдерживая кашель, дает адрес клиники, недавно открытой неподалеку. Ради того чтобы успокоить мой ребяческий страх, он не щадит себя и не упрекает меня за то, что я побеспокоил его из-за пустяка в то время как он сам нездоров и его ждут тяжелые больные. Он не разделяет визиты на более или менее важные, он равно принадлежит всем, кто нуждается в его помощи.
Я спешу в дом увидеть Клер. Делозьер одним словом снял все мои смутные страхи, казавшиеся мне неискоренимыми. Удивительна власть слова над человеком.
* * *Клер выглядит оживленной и отдохнувшей, лицо ее светится молодостью — такой я ее раньше не видел, — глаза омыты светом. Ее аппетит забавляет Матильду. Клер увлекает меня на длительные прогулки, от которых никогда не устает, а когда головокружение вынуждает ее остановиться, произносит с гордой улыбкой: «Ничего, это пройдет», — будто избыток счастья и любви может излечить недуг.
Прогулки эти кажутся мне верхом неосторожности, я все время поддерживаю ее под руку, не даю ей идти слишком быстро, заставляю отдыхать; сам я сделался чрезвычайно серьезным, и Клер мне видится в свете тяготеющего над ней будущего. Она не разделяет моего беспокойства: похоже, я один думаю о ребенке, который должен родиться в конце лета. Порой я даже в этом сомневаюсь, видя, как беззаботно она упивается настоящим, как дышит здоровьем и жизнерадостностью все ее существо.
— Ты уверена?
— Да. Делозьер скоро посетит нас. Он сказал: через месяц. Вот уж месяц, как идет снег.
— У тебя щеки розовые, как у девочки.
— Я очень счастлива… Мне бы не хотелось, чтоб ты беспокоился о будущем… Пусть тебя не пугают отцовские хлопоты… Знаю, ты не любишь забот, а ребенок — всегда забота.
— Ребенок не просто забота — это целая драма.
— У тебя все — драма.
— О, я вынужден пользоваться тем языком, которому меня учили, слова его неточны… Безусловно, жизнь трагична, знающий ее не может думать иначе… Но трагедия эта прекрасна, она бесконечна, удивительна, она беспрестанно возвышает нас… Да, это прекрасная трагедия, и для ее исполнения на все роли нужны великие актеры. Как она будит мысль! Как она вытягивает из нас все новые чувства! Я бы никогда не поверил, что могу привязаться к тебе еще сильней, испытать еще большее доверие, вкусить радостное ожидание юноши, впервые открывающего любовь… Сегодня я могу признаться: я не хотел этого нового счастья, я его боялся… Ты настояла… В очередной раз жизнь вынудила меня принять от нее подарок… Раньше, когда я не отваживался жениться на тебе, когда не было между нами подлинного единства, жизнь увлекла меня навстречу тебе… Ты мой самый главный жизненный урок.
— Я никогда не говорила тебе, что хочу ребенка.
— Я с первых дней почувствовал в тебе это неосознанное желание, становившееся с годами все более явным. Разве я не прав?
— То был вернее всего инстинкт… Только теперь я поняла, чего нам не доставало…
— И я понял…
Я замолкаю на полуслове, вспомнив о своей книге. Я хотел бы ее закончить, но как? В книге о жизни нет конца, и для того, чтобы остановиться в беспредельном восхождении, я ищу мысль, которая бы подытожила мой личный опыт. Вот она, эта мысль: «Все что дает нам жизнь, есть благо. Я все от нее приемлю. Я не имею права на выбор».
Взглянув на Клер, я понимаю, что она ждет окончания фразы.
— Ты сказал: я понял…
— Я понял, что мы с тобой хотим одного и того же.
— Так почему же ты говоришь, что ребенок это драма? Какая драма? Конфликт поколений?
— Нет. Конфликт поколений — это пустячная комедия. Я редко встречал детей, которые были бы моложе своих отцов или идейно опережали их. Драма коренится в том, что они наши дети… наши дети и одновременно самостоятельные личности. Вот, что трудно совместить.
— У нас получится чуть-чуть иначе. Ребенок появится слишком поздно. Ему следовало родиться пять лет назад, когда мы путешествовали в Эль Кантару.
— Пять лет назад…
Я мысленно оглядываюсь в прошлое, стараясь охватить взглядом эти пять лет; они представляются мне долгими и вместе с тем неуловимыми, будто пролетевшими мгновенно.
— Пять лет…
Я опускаю глаза, а Клер говорит:
— А вот и Леонар!
По дороге к нам приближается убогий калека, кривоногий горбун; ступает он удивительно легко; на бесформенных плечах болтается потертое пальто, лицо ярко-красное, на макушке — круглая шляпа, он прижимает к груди корзину.
Глаза у него живые, но смотрят как-то мимо, рыжие усы выглядят нелепо на его простодушной физиономии.
— Ну как ваши обмороженные руки? Лучше? — весело спрашивает Клер.
— Я вылечился травами. Травы очень полезны, надо только их знать.
Говорит он медленно, отделяя слово от слова, чарующим певучим голосом.
— Вы продали овощи, Леонар?
— Свекла осталась… Хотите?
Он подает нам свеклу, словно бесценное сокровище, уставив на Клер сияющий взгляд.
— А еще у меня есть цветок… Не желаете ли?
Он отыскивает в корзине завернутый в бумагу черенок примулы.
— Я покупаю его и дарю вам, — произносит Клер подчеркнуто приветливым тоном, каким мы любим разговаривать с теми, кто несчастнее нас.
Он же смотрит на нее ласково и с состраданием.
* * *Весьма опасно бездумно следовать идее, бывшей некогда верной, но впоследствии утратившей смысл. Я так долго повторял по привычке, что моя плантация хорошо управляется, что сам в это уверовал. В противном случае я бы давно принял меры, благодаря которым соседи мои выдержали затянувшийся кризис, и с большей пользой употребил бы ссуженные мне капиталы. Частично я еще могу их спасти, если стану экономить, что я и объясняю Клер:
— В будущем году я продам плантацию Пьерко, но попрошу заплатить часть стоимости наличными. Он согласится, если к тому времени я не останусь совсем без средств. Надо уже сегодня сократить расходы вдвое, для этого мне необходимо поехать на Борнео, причем немедля. После визита Делозьера я сразу отправлю Франку телеграмму. Мне хватит двух месяцев. Вернусь в июне.
— Хорошо бы, чтобы ты вернулся в июне. Но надо ехать теперь же. Нечего ждать Делозьера. Телеграфируй Франку. Это важно. Ты едешь ради нашего ребенка.
Клер не выказывает огорчения. Наши интересы не замыкаются больше на нас двоих, и оттого мы оба чувствуем и мыслим иначе: центр наших забот расположен теперь вне нас. Она разворачивает материал, из которого собирается шить домашнее платье, я беру ее за руки, ласки мои исполнены нового огня.
— Если удастся купить билет, я уеду на следующей неделе. Четыре месяца — это совсем недолго…
Клер опускает голову, делая вид, что пристально разглядывает ткань.
— Да, конечное… совсем недолго.
Ей тяжело, но она не подает виду. Я представляю себе нескончаемую ночь разлуки, письма, обманчивые и ничего не значащие, поскольку идут они слишком медленно, и этот дом, одухотворенный нашей любовью, дом, который я покину в ту минуту, когда Клер подвергается опасности. Если бы речь шла о нас двоих, я бы ни за что не уехал. И все же бодрость моя непритворна. Я не знаю, как определить мои чувства, сам не пойму, что я испытываю: беспокойство, радость или горе; я не мог бы сказать, чего я желаю и чего опасаюсь, я ощущаю, что поднялся выше привычных мне понятий, таких как удовольствие или сожаление.