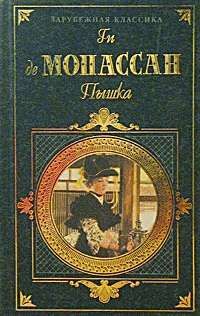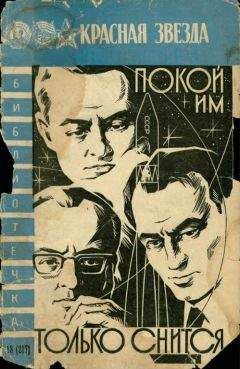Ги Мопассан - Сильна как смерть (Пер. Николай Лернера)
Затем Бертен и графиня вошли в гостиную; он просто сиял.
— Ах, как хорошо, что мне пришло в голову приехать сюда! — сказал он.
Но тут же поправился:
— Нет, эту мысль подал мне ваш муж. Он поручил мне привезти вас. А знаете, что я предлагаю вам? Нет, конечно, не знаете! Так вот, я предлагаю вам, напротив, остаться. В эту жару Париж отвратителен, а деревня прекрасна… Боже! Как здесь хорошо!
С наступлением вечера парк наполнился прохладой, зашелестели деревья, с земли стали подниматься невидимые испарения, заволакивавшие горизонт легкой, прозрачной дымкой. Три коровы, низко опустив головы, жадно щипали траву, а четыре павлина, громко хлопая крыльями, взлетели и уселись перед окнами дома на кедр, где они обыкновенно спали. Издали, с полей, доносился собачий лай, и в тихом вечернем воздухе слышались зовы человеческих голосов, отдельные фразы, перелетавшие над полями с одной пашни на другую, и короткие гортанные крики, которыми понукают скотину.
Художник, с непокрытой головой, с блестящими глазами, дышал полной грудью и, отвечая на взгляд графини, сказал:
— Вот оно, счастье!
Она подошла к нему ближе.
— Оно длится не вечно.
— Будем брать его, когда оно приходит.
Тогда она с улыбкой сказала:
— До сих пор вы не любили деревни.
— Теперь я люблю ее, потому что нахожу здесь вас. Я не мог бы больше жить там, где вас нет. Когда человек молод, он может любить издалека, в письмах, в мыслях, в восторженных мечтах — может быть, чувствуя, что жизнь еще впереди, а может быть, и потому, что человек живет тогда не столько запросами сердца, сколько страстью. В мои же годы, напротив, любовь становится привычкой больного, целебной повязкой на ранах души, а душа владеет теперь только одним крылом и уже не так высоко витает в идеальном. В сердце уже нет экстаза, у него только эгоистические требования. И притом я очень хорошо чувствую, что нельзя терять времени, если я хочу насладиться тем, что еще осталось для меня.
— О, какой старик! — сказала она, взяв его за руку.
Он повторил:
— Ну, конечно, конечно. Я стар. Все говорит за это: волосы, перемены в характере, тоска, которая находит на меня. Черт возьми! Вот что до сих пор было мне незнакомо: тоска! Если бы мне в тридцать лет сказали, что настанет пора, когда я буду испытывать беспричинную грусть, беспокойство, недовольство всем, я не поверил бы этому. Это доказывает, что мое сердце тоже состарилось.
Она ответила с глубокой уверенностью:
— О, мое сердце совсем молодо. Оно не изменилось. Может быть, даже помолодело. Когда-то ему было двадцать лет, а теперь не больше шестнадцати.
Долго разговаривали они так у открытого окна, проникаясь настроением этого вечера, стоя рядом, ближе, чем когда бы то ни было, в этот час нежности, такой же сумеречной, как этот час дня.
Вошел слуга и объявил:
— Кушать подано.
Она спросила:
— Вы доложили моей дочери?
— Мадмуазель в столовой.
Они сели за стол втроем. Ставни были закрыты; пламя двух больших шестисвечных канделябров озаряло лицо Аннеты, ее голова казалась посыпанной золотой пудрой. Бертен не спускал с нее глаз и улыбался.
— Боже, как она хороша в черном! — говорил он.
И, любуясь дочерью, он обращался к графине, как бы благодаря мать за то, что она дала ему это наслаждение.
Когда они вернулись в гостиную, луна поднялась над деревьями парка. Их темная масса выделялась, словно большой остров, а поля за ними казались морем, которое застилал легкий туман, низко носившийся над равниной.
— О, мама, пойдем погуляем, — сказала Аннета.
Графиня согласилась.
— Я возьму Джулио.
— Хорошо, возьми, если хочешь.
Они вышли. Девушка шла впереди, играя с собакой. Проходя по лугу, они услышали сопение коров, которые, проснувшись и почуяв своего врага, подняли головы, оглядываясь. Вдали луна пронизывала ветви деревьев целым ливнем тонких лучей, и они, скользя до самой земли, омывали листву и разливались по дороге лужицами желтоватого света. Аннета и Джулио бегали, словно в эту ясную ночь одинаково радостно и беззаботно было у них на сердце, и восторг их находил себе выход в прыжках.
По лесным полянам, куда волны лунного света падали, как в колодцы, девушка проходила, словно видение, и художник звал ее к себе, очарованный этим черным призраком с блистающим, светлым лицом. Когда она снова уходила, он пожимал руку графини и часто, проходя местами, где сгущались тени, искал ее губы, будто при виде Аннеты каждый раз оживало нетерпение его сердца.
Они дошли наконец до края равнины, откуда еле виднелись вдали там и сям купы деревьев, окружавших фермы. За молочным туманом, затопившим поля, горизонт уходил в бесконечность, и легкая тишина, насыщенная жизнью, тишина этого светлого и теплого простора была полна неизъяснимой надежды, неопределенного ожидания, которые придают такую прелесть летним ночам. Высоко-высоко в небе длинные, тонкие облачка казались сотканными из серебряной чешуи. Остановившись на минуту, можно было расслышать в этой ночной тиши смутный и непрерывный шепот жизни, множество слабых звуков, гармония которых казалась сначала безмолвием.
На соседнем лугу перепелка испускала свой двойной крик, и Джулио, навострив уши, двинулся, крадучись, на звуки двух нот этой птичьей флейты. Аннета пошла за ним, такая же легкая, как он, пригнувшись и затаив дыхание.
— Ах! — сказала графиня, оставшись наедине с художником, — почему подобные прекрасные мгновения проходят так быстро? Ничего нельзя удержать, ничего нельзя сохранить. Не хватает даже времени насладиться тем, что так хорошо. Сразу наступает конец!
Оливье поцеловал ей руку и с улыбкой возразил:
— О, в этот вечер мне не до философии. Я весь отдаюсь настоящей минуте.
Она прошептала:
— Вы любите меня не так, как я вас.
— Ах, полно!
Она перебила:
— Нет, вы любите во мне, как вы очень хорошо сказали сегодня, женщину, которая удовлетворяет потребностям вашего сердца, женщину, которая никогда не причинила вам огорчения и внесла долю счастья в вашу жизнь. Я это знаю, я чувствую это. Да, я сознаю и горячо радуюсь, что была к вам добра, что была вам полезна и помогала вам. Вы любили и теперь еще любите все, что находите во мне приятного, мое внимание к вам, мое поклонение, мое старание нравиться вам, мою страсть, то, что я принесла вам в дар всю свою внутреннюю жизнь. Но не меня вы любите, поймите. О, я это чувствую, как чувствуют холодный сквозняк. Вы любите во мне множество вещей, мою красоту, которая уходит, мою преданность, ум, который во мне признают, мнение, составленное обо мне в свете, и то мнение, какое я храню в своем сердце о вас, — но не меня, не меня, понимаете ли, вовсе не меня самое!
Он дружелюбно усмехнулся:
— Нет, не совсем понимаю. Вы делаете мне совершенно неожиданную сцену с упреками.
Она воскликнула:
— О, боже мой! Я хотела дать вам понять, как я люблю вас! Вот видите, я стараюсь это выразить и не умею. Когда я думаю о вас — а я думаю о вас всегда, — я всем своим телом и всей душой испытываю невыразимое блаженство от того, что принадлежу вам, и непреодолимую потребность еще больше отдать вам себя. Я хотела бы вполне пожертвовать для вас собою, потому что, когда любишь, нет ничего лучше, как отдавать, всегда отдавать все, все, свою жизнь, свою мысль, свое тело, все, что имеешь, и вполне чувствовать, что отдаешь, и быть готовой отдать еще больше. Я вас так люблю, что люблю даже мои страдания из-за вас, люблю мои тревоги, терзания, приступы ревности, боль, которую я испытываю, когда чувствую, что вы уже не так нежны со мною. Я люблю в вас того, кого я сама открыла, — не того, который принадлежит свету, кому поклоняются, кого знают, а того, кто принадлежит мне, который не может больше измениться, не может состариться, которого я уже не могу не любить, потому что глаза мои видят только его. Но это невозможно высказать. Нет слов, чтобы выразить это.
Он тихо-тихо повторил несколько раз подряд:
— Милая, милая, милая Ани.
Джулио возвращался вприпрыжку, не найдя перепелки, которая замолчала, почуяв его приближение, а за ним бегом следовала Аннета, еле переводя дух.
— Не могу больше! — сказала она. — Дайте повиснуть на вас, господин художник!
Она оперлась на свободную руку Оливье, и так они пошли домой под темными деревьями — он между двумя женщинами. Они не разговаривали. Он шел весь во власти своих спутниц, чувствуя, как пронизывает его исходящий от них ток. Он не смотрел на них, ведь они были рядом с ним, он даже закрывал глаза, чтобы лучше чувствовать обеих женщин. Они его вели, направляли, и он шел, не глядя, куда идет, влюбленный в них, — и в ту, что была слева, и в ту, что была справа, — не разбирая, которая из них слева и которая справа, которая мать и которая дочь. С какою-то бессознательной и утонченной чувственностью отдавался он этому волнующему ощущению. Он даже старался смешать их в сердце, не различать их мыслью и убаюкивал свою страсть прелестью этого смешения. Разве эта мать и эта дочь, так похожие друг на друга, не одна женщина? И разве дочь не для того лишь явилась на землю, чтобы омолодить его былую любовь к матери?