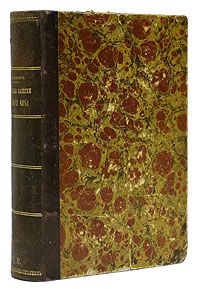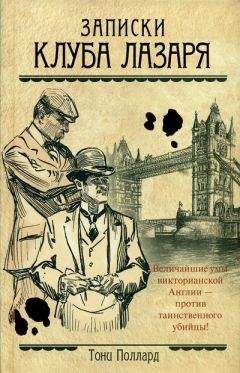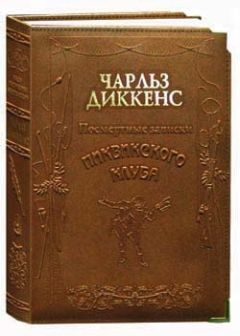Чарльз Диккенс - Замогильные записки Пикквикского клуба
И он с вопросительным видом взглянул на незнакомца, который не замедлил дать полный и удовлетворительный ответ:
— Джингль, сэр, Алфред Джингль, эсквайр — беспоместный и бездомный эсквайр, сэр.
— С удовольствием, — сказал мистер Пикквик; — мне будет очень приятно.
— И мне, — сказал мистер Алфред Джингль, подавая одну руку мистеру Пикквику, другую — мистеру Уардлю и говоря потом втихомолку на ухо первого джентльмена. — Обед превосходный… заглядывал сегодня в кухню… куры, дичь, пироги — деликатес! Молодые люди хорошего тона… народ веселый, разбитной — отлично!
Так как предварительные распоряжения были приведены заранее к вожделенному концу, то вся компания, разделенная на маленькие группы, поворотила из палаток на главную улицу Моггльтона, и через четверть часа господа крикетисты со своими гостями уже заседали в большой зале «Голубого Льва» под председательством мистера Домкинса и товарища его, вице-президента Лоффи.
Дружно поднялся за огромным столом говор веселых гостей, дружно застучали ножи, вилки и тарелки, хлопотливо забегали взад и вперед расторопные официанты, и быстро стали исчезать, одно за другим, лакомые блюда. Мистер Джингль кушал, пил, говорил, веселился и шумел один за четверых. Когда все и каждый насытились вдоволь, скатерть была снята, и на столе явились бутылки, рюмки и бокалы. Официанты удалились в буфет и кухню рассуждать вместе с поваром об остатках торжественного обеда.
Наступили минуты сердечных излияний и общего восторга. Среди вдохновенного говора безмолвствовал только один маленький джентльмен с длинным носом и сверкающими глазами. Скрестив руки на груди, он путешествовал по зале медленными и ровными шагами, оглядываясь временами вокруг себя и откашливаясь с какой-то необыкновенной энергией выразительного свойства. Наконец, когда беседа приняла на минуту более ровный и спокойный характер, маленький джентльмен провозгласил громко и торжественно:
— Господин вице-президент!
Среди наступившей тишины взоры всех и каждого обратились на вице-президента. Мистер Лоффи выступил вперед и произнес торжественный ответ:
— Сэр!
— Я желаю сказать вам несколько слов, сэр: пусть почтенные джентльмены благоволят наполнить свои бокалы.
Мистер Джингль сделал выразительный жест и произнес энергичным тоном:
— Слушайте, слушайте!
Когда бокалы наполнились искрометной влагой, вице-президент, принимая глубокомысленный вид, сказал:
— Мистер Степль.
— Сэр, — начал миниатюрный джентльмен, выступив на середину залы, — я желал бы обратить свою речь собственно к вам, а не к нашему достойному президенту, потому что, так сказать, наш достойный президент находится в некоторой степени… можно даже сказать, в весьма значительной степени… между тем как предмет, о котором хочу я говорить, или лучше… правильнее то есть… или… или…
— Рассуждать, — подсказал мистер Джингль.
— Так точно, рассуждать, — продолжал миниатюрный джентльмен. — Благодарю за такое пояснение мысли моего почтенного друга, если он позволит мне называть его таким именем (Слушайте, слушайте! — Мистер Джингль суетится больше всех). Итак, сэр, объявляю, что я имею честь быть крикетистом из Дингли, то есть из Дингли-Делля (громкие рукоплескания). Само собою разумеется, что я отнюдь не могу обнаруживать притязаний на высокую честь принадлежать к почтенному сословию моггльтонских граждан, и вы позволите мне заметить откровенно, сэр, что я не ищу, не домогаюсь и даже нисколько не желаю этой чести (Слушайте, слушайте!). Уже давно продолжается похвальное соревнование на поле национального игрища между Моггльтоном и Дингли-Деллем, — это известно всему свету, сэр, и, конечно, никто не станет оспаривать, что европейский континент имеет высокое мнение о крикетистах… Могуч и славен город Моггльтон, и всюду гремит молва о великих подвигах его граждан; но тем не менее я — дингли-деллер и горжусь этим наименованием вот по какой причине (Слушайте, слушайте!). Пусть город Моггльтон гордится всеми своими отличиями, — на это, конечно, он имеет полное право: достоинства его многочисленны, даже, можно сказать, бесчисленны. Однако ж, сэр, если все мы твердо помним, что Моггльтон произвел на свет знаменитых героев, Домкинса и Поддера, то, конечно, никто из нас не забудет и не может забыть, что Дингли-Делль, в свою очередь, может достойно превозноситься тем, что ему одолжены своим бытием не менее знаменитые мужи: Лоффи и Строггльс (Дружные и громкие рукоплескания). Унижаю ли я через это честь и славу моггльтонских граждан? Нет, тысячу раз нет. Совсем напротив: я даже завидую при этом случае роскошному излиянию их национальных чувств. Все вы, милостивые государи, вероятно, хорошо знаете достопамятный ответ, раздавшийся некогда из бочки, где имел местопребывание свое великий философ древней Греции, стяжавший достойно заслуженную славу в классическом мире: «Если бы я не был Диогеном», сказал он, «то я желал бы быть Александром». — Воображаю себе, что господа, здесь предстоящие, могут в свою очередь сказать: «Не будь я Домкинс, я бы желал быть Лоффи», или: «Не будь я Поддер, я желал бы быть Строггльсом» (общий восторг). К вам обращаюсь, господа, почтенные граждане Моггльтона: один ли крикет упрочивает за вами громкую известность? Разве вы никогда не слышали о Домкинсе и его высоких подвигах, имеющих непосредственное отношение к вашей национальной славе? Разве вы не привыкли с именем Поддера соединять понятие о необыкновенной решительности и твердости характера в защите собственности? Кому еще так недавно пришла в голову счастливая мысль относительно увеличения наших привилегий? Кто так красноречиво ратовал в пользу нашей церкви? Домкинс. Итак, милостивые государи, приглашаю вас приветствовать с общим воодушевлением почтенные имена наших национальных героев: да здравствуют многая лета Домкинс и Поддер!
От громких рукоплесканий задрожали окна, когда миниатюрный джентльмен кончил свою речь. Весь остаток вечера прошел чрезвычайно весело и дружелюбно. Тосты следовали за тостами, и одна речь сменялась другой: красноречие господ крикетистов обнаружилось во всей своей силе и славе. Мистер Лоффи и мистер Строггльс, мистер Пикквик и мистер Джингль были каждый в свою очередь предметом единодушных прославлений, и каждый, в свое время, должен был в отборных выражениях благодарить почтенную компанию за предложенные тосты.
Как стяжатели национальной славы, мы весьма охотно согласились бы представить нашим читателям полный отчет обо всех подробностях знаменитого празднества, достойного занять одно из первых мест в летописях великобританских торжеств; но, к несчастью, материалы наши довольно скудны, и мы должны отказаться от удовольствия украсить свои страницы великолепными образчиками британского витийства. Мистер Снодграс, с обычной добросовестностью, представил значительную массу примечаний, которые, нет сомнения, были бы чрезвычайно полезны для нашей цели, если бы, с одной стороны, пламенное красноречие, с другой — живительное действие вина не сделали почерк этого джентльмена до такой степени неразборчивым, что рукопись его в этом месте оказалась почти совершенно неудобной для ученого употребления. Мы едва могли разобрать в ней имена красноречивых ораторов и весьма немного слов из песни, пропетой мистером Джинглем. Попадаются здесь выражения вроде следующих: «Изломанные кости… пощечина… бутылка… подзатыльник… забубенный»; но из всего этого нам, при всем желании, никак не удалось составить живописной картины, достойной внимания наших благосклонных читателей.
Возвращаясь теперь к раненому мистеру Топману, мы считаем своей обязанностью прибавить только, что за несколько минут до полуночи в трактире «Голубого Льва» раздавалась умилительная мелодия прекрасной и страстной национальной песни, которая начинается таким образом:
Пропируем до утра,
Пропируем до утра,
Пропируем до утра,
Хей, хой! До утра!
Глава VIII. Объясняет и доказывает известное положение, что «путь истинной любви не то, что железная дорога»
Безмятежное пребывание на хуторе Дингли-Делль, чистый и ароматический воздух, оглашаемый беспрерывно пением пернатых, присутствие прелестных представительниц прекрасного пола, их великодушная заботливость и беспокойство — все это могущественным образом содействовало благотворному развитию нежнейших чувств, глубоко насажденных самой природой в сердце мистера Треси Топмана, несчастного свидетеля птичьей охоты. На этот раз его нежным чувствам было, по-видимому, суждено обратиться исключительно на один обожаемый предмет. Молодые девушки были очень милы, и обращение их казалось привлекательным во многих отношениях; но незамужняя тетушка превосходила во всем как своих племянниц, так и всякую другую женщину, какую только видел мистер Топман на своем веку. Было какое-то особенное великолепие в ее черных глазах, особенное достоинство в ее осанке, и даже походка незамужней девы обличала такие сановитые свойства, каких отнюдь нельзя было заметить в молодых мисс Уардль. Притом не подлежало ни малейшему сомнению, что мистер Треси Топман и незамужняя тетушка прониклись друг к другу с первого взгляда непреодолимой симпатией; в их натуре было что-то родственное, что, по-видимому, должно было скрепить неразрывными узами мистический союз их душ. Ее имя невольно вырвалось из груди мистера Топмана, когда он лежал на траве, плавая в своей собственной крови, и страшный истерический хохот незамужней тетушки был первым звуком, поразившим слух счастливого Треси, когда друзья подвели его к садовой калитке. Чем же и как объяснить это внезапное волнение в ее груди? Было ли оно естественным излиянием женской чувствительности при виде человеческой крови, или, совсем напротив, источник его заключался в пылком и страстном чувстве, которое только он один из всех живущих существ мог пробудить в этой чудной деве? Вот вопросы и сомнения, терзавшие грудь счастливого страдальца, когда он был распростерт на мягкой софе перед пылающим камином. Надлежало разрешить их во что бы ни стало.