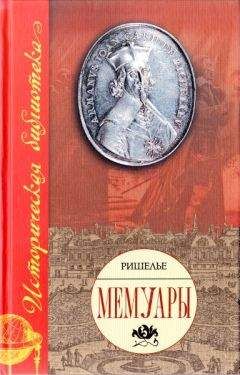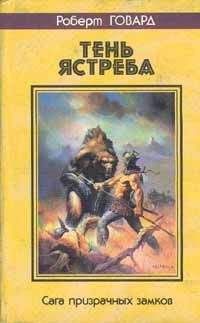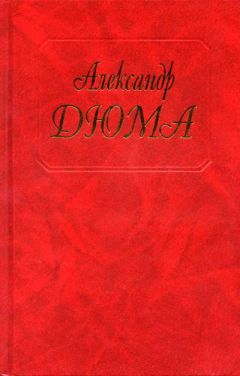Фредерик Сулье - Мемуары Дьявола
— Да, сударь.
— И был в конторе?
— Да, сударь.
— Он получил деньги?
— Да, сударь.
— От кого?
— От меня.
— И из каких же денег вы ему заплатили, господин Ланнуа?
Леон, который, как я видела, уже закипал от ярости, догадался, конечно, что капитан хотел оспорить сделанный им ничтожный платеж. Он повернулся к нему спиной и презрительно проронил:
— Из своих, сударь.
Капитан, собиравшийся, как я думаю, сделать выговор Леону за вольность, был сбит с толку; он побледнел, как мертвец, но, не зная, как толком выразить свое недовольство, растерянно хмыкнул:
— Похоже, этот Жан-Пьер оказал вам немалую услугу…
Тон этих слов задел Леона и вывел из себя; радостно и торжествующе он заявил:
— О! Да, сударь, да! Очень большую!
— И это будучи прикованным к постели?
— Да, во время болезни.
— Это как же он умудрился?
Леон улыбнулся, лицо его совершенно переменилось; от гнева не осталось и следа — теперь оно выражало только смиренную почтительность; он положил руку на сердце и, подняв на меня глаза, которыми он в первый раз осмелился заговорить со мной, ответил:
— О! Это мой секрет, сударь.
— Но это, безусловно, и секрет моего рабочего, — возразил капитан, — а потому я имею право его знать.
— Что ж, вот и спросите у него.
— Я как-нибудь обойдусь без ваших указаний.
— Охотно верю, господин капитан.
Во время этого обмена любезностями Феликс не спускал с меня глаз, ибо перехватил так взволновавший меня взгляд Леона. Я же прекрасно поняла его. Он как бы говорил мне: «Я увидел вас впервые, когда вы шли к Жан-Пьеру; вот за что он получил свое вознаграждение…»
Обед прошел в напряженном молчании, после неприятного объяснения все пребывали в замешательстве. Только я чувствовала себя легко и тихо радовалась. Точно так же, как признание Леона, я поняла и подозрения Феликса и впервые испытывала удовольствие от того, что его провели. Когда Леон ушел, я осталась с братом и его женой. Ортанс тихо пожаловалась мужу на грубость Феликса.
— Я боюсь говорить с ним, — призналась она. — Не мог бы ты вразумить его по-мужски? Наш гость добр и трудолюбив, Феликс слишком суров с ним.
Моя благодарность Ортанс, безусловно, отразилась в моих глазах, так что брат не мог ее не заметить.
— Да, — кивнул он неопределенно, — Феликс недолюбливает его и несколько резковат; и, поскольку я не хочу, чтобы этот молодой человек плохо отзывался о нас, я найду предлог, чтобы отправить его к отцу.
— Как? — с болью и отчаянием вскрикнула я. — Но это же несправедливо!
— Зато разумно, — сурово отрезал брат, пронизывая меня испытующим взглядом.
Я потупилась, а он, сделав знак Ортанс, также пристально изучавшей меня, вышел.
Мой секрет был раскрыт, мне это ясно дали понять. Впервые я поняла, что чувство, которое я испытывала к Леону, можно назвать любовью. И все-таки, если бы сестра моя, Ортанс, протянула в ту минуту мне руку со словами: «Генриетта, ты любишь его?» — я бросилась бы к ней на шею и со слезами обещала бы отречься от этой любви, так как в нашей семье любовь считалась преступлением. Но Ортанс, обычно столь добрая и душевная со мной, казалась теперь строгой и неприступной; она безоговорочно приняла сторону Феликса, которого только что порицала, и решила, видимо, обелить его передо мной.
— Генриетта, — властно проговорила она, — я совершенно напрасно ругала Феликса; не делай еще большей ошибки, не суди его строго.
Меня уязвила эта нотация; воспользовавшись тем, что внешне я ничем вроде бы не спровоцировала этот выговор (хотя в глубине души понимала, что заслужила его), я едко возразила:
— А я и не собиралась судить его! Разве я говорила что-нибудь плохое о капитане? Я даже имени его не упоминала!
Это задело Ортанс за живое, и она сухо откликнулась:
— Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать, сударыня.
— Понятия не имею, — перебила я ее раздраженно, до того мне было обидно незаслуженное подозрение. — При чем здесь я? Вы сами выразили мнение о своем братце, может, теперь вы станете утверждать, что это я обвинила его в черствости?
— Да, вы ничего не сказали, но подумали — в тот момент, когда воскликнули, что несправедливо отправлять господина Ланнуа восвояси…
— Я только повторила ваши слова, вот и все.
— Генриетта, не оправдывайтесь, — одернула меня Ортанс. — Вы поступаете подобно людям, которые чувствуют свою вину.
— Вину? Какую вину? В чем я виновата? — Я едва не заплакала.
Ортанс, сурово смотревшая на меня, приблизилась, взяла меня за руку и после продолжительного молчания, во время которого она пристально вглядывалась, казалось, в самую глубину моей души, сжалилась и проговорила:
— Генриетта, сестра моя, остерегись — не делай глупостей. Вспомни о своем обещании. Феликс любит тебя…
Я сомневалась в своих чувствах, теперь меня вынудили разобраться в них до конца.
Да — я и сейчас так думаю — не будь этого предупреждения, я бы так и не поняла, как назвать пламя, бушевавшее в моей груди, постепенно успокоилась бы и все забыла. Но когда ему дали имя, когда его назвали любовью, словно увенчав огненной короной, — словом, когда я узнала, что это такое, вот тогда-то мне стало любопытно: я захотела рассмотреть его как следует и изучить, хотя бы для того, чтобы справиться с ним.
До сих пор Леон, смутивший мой покой, не занимал меня полностью; но после разговора с Ортанс он завладел всеми моими мыслями. Я любила Леона — мне это ясно дали понять, — но насколько это соответствовало действительности? Я заглянула в свою душу и обнаружила странные вещи. Лицо Леона, его искренний и мягкий взгляд, длинные и красивые светлые волосы, благородная осанка, пленительный певучий голос, смешные и страшные рожицы, которые он строил моим маленьким племянницам, — весь его облик, как печать, лег мне на сердце, так что у меня не было необходимости его изучать. Я видела Леона насквозь, я знала его лучше, чем брата и отца, чем тех, с кем бок о бок прожила всю свою жизнь. Мне кажется, он говорил моими устами, я повторяла его жесты, чувствовала его мысли — настолько он проник в меня. Можно сказать, я только им и жила.
Меня испугало, что кто-то посторонний возымел надо мной такую власть; мое самолюбие возмутилось тем, что моя жизнь отдана в руки человека, которому она, возможно, абсолютно безразлична; и внезапно меня обуял страх, что мне не ответят взаимностью.
Любовь! О, любовь подобна высшим силам, все служит ей — и самозабвение, и сопротивление. Я полюбила бы Леона, если бы совершенно не опасалась его, и любила его, потому что испугалась. О Господи! Да могла ли я не полюбить его? Разве люди не срываются с отвесных скал, когда преувеличивают и когда недооценивают их крутизну?
Я все это выстрадала, да. Образ Леона беспокоил меня. Ночью он сидел у изголовья моей кровати, днем лишь изредка покидал меня, и я стала находить его докучливым, почти наглым; он обращался и говорил со мной, как властелин. Как я хотела избавиться от этого наваждения! Но все, что поддерживало меня до тех пор: работа, молитвы и прочие занятия — все словно куда-то проваливалось, куда-то исчезало, стоило мне только попытаться отвлечься. Это походило на зыбучий песок на краю бездны, который уходит вниз, когда пытаешься опереться на него; мне казалось, что пылающий солнечный круг воспарил над моей жизнью, все распылив и порождая только любовь. Увы! Увы — я не могу как следует все объяснить! Я тогда не совсем отдавала себе отчет в происходившем в моей душе. Как бы то ни было, я приняла тогда торжественное решение и, не желая, чтобы Леон заподозрил свою власть надо мной, в течение целого месяца заставляла себя обращаться с ним крайне нелюбезно. Должно быть, поселившийся внутри меня страх крепчал с каждым днем, ибо я не испытывала никакой жалости к очевидной грусти Леона. Он был так несчастлив! Ах! Его горе ясно выдавало его любовь, а потому чрезвычайно мне нравилось, и втайне я любила его за то, что он так страдает.
Единственно, что мне с трудом удавалось вынести, да простит меня Господь за эту внутреннюю борьбу, ибо я вышла из нее победителем, единственное испытание, в котором мужество едва не оставило меня — то было мучение от явной радости Феликса. Я имела все основания изводить притворной холодностью Леона;{86} я знала, как он страдал, ибо я страдала точно так же; я ничего ему не говорила, но по безмолвному соглашению с самой собой понимала, что по праву терзаю того, кому на самом деле сочувствовала всей душой; но то, что Леону приходилось переносить косые торжествующие взгляды и дурацкие насмешки капитана, раздражало меня ужасно; тысячу раз меня подмывало признаться Леону: «Я кривлю душой, когда отвожу от тебя глаза; я обманываю, когда избегаю встреч с тобой; я лгу, когда отвечаю тебе без радости в голосе и делаю вид, что не слышу тебя!»